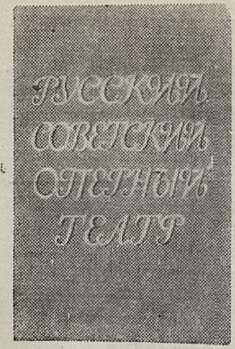
было почти недостижимо на оперной сцене. Не удивительно поэтому, что первые же опыты обновления оперного театра начались с попыток привлечь к его работе крупнейших драматических режиссеров» (стр. 43–44).
Прогрессивная реформаторская роль К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко в развитии советского музыкального театра уже получила достаточное освещение в нашей литературе. В книге Гозенпуда мы находим интересный материал и о других режиссерах, в работе которых было много противоречивого и спорного (в том числе Ф. Комиссаржевского, И. Лапицкого, Н. Смолича). Они приносили в оперный театр постановочную культуру, способствовали воспитанию мыслящего певца-актера, и в этом заключалась положительная сторона их деятельности. Но они часто недооценивали специфические требования музыкальной драматургии, что приводило к несовпадению сценического и музыкального действия, а в некоторых случаях и к прямому нарушению авторского замысла. Одним из наиболее ярких образцов такого режиссерского произвола явилась постановка «Пиковой дамы» на сцене Ленинградского Малого оперного театра, осуществленная Вс. Мейерхольдом в 1935 году. Отмечая отдельные «поразительные режиссерские удачи», Гозенпуд правильно говорит об ошибочности общей концепции спектакля. Справедливо критикует автор и некоторые работы Вл. Немировича-Данченко, иногда отдававшего дань мало плодотворному экспериментаторству, что сказалось в таких его постановках, как «Карменсита и солдат» (по «Кармен» Бизе) и «Травиата». Нам кажется, что Гозенпуд более прав в оценках этих «вольных» трактовок, чем некоторые неумеренные апологеты великого режиссера, стремящиеся видеть в них образец реалистического переосмысления классики. Подобный подход к истолкованию классических произведений вызывал осуждение уже тогда.
Большой принципиальный интерес представляет цитируемое Гозенпудом выступление А. В. Луначарского против «модернизации прежних композиторов» (стр. 73–74), которое относится еще к 1920 году. Об этом стоит напомнить сейчас, так как в нашей оперной театральной практике до сих пор остается нерешенным вопрос о соотношении музыкального и сценического начала и стремление к подлинному, органическому их синтезу нередко подменяется неоправданными режиссерскими домыслами, идущими вразрез с требованиями музыкальной драматургии.
Гозенпуд подробно освещает и положительный опыт советских музыкальных театров в работе над классикой. Здесь прежде всего выделяется ряд постановок «Бориса Годунова» — оперы, которая привлекала к себе особое внимание уже с первых лет после Октября. Как подчеркивает автор, она «получила верное истолкование только в советском театре» (стр. 180–181). Восстановление подлинного «Бориса Годунова» на сцене ленинградского ГАТОБа в 1928 году Гозенпуд справедливо оценивает как «большую и принципиальную победу советского оперного театра» (стр. 200). Таким же историческим по своему значению событием явилось возобновление на московской и ленинградской оперных сценах в 1939 году «Ивана Сусанина» с текстом С. Городецкого. Отметим приводимые автором интересные архивные данные, свидетельствующие о том, что вопрос о восстановлении в репертуаре этого гениального первенца русской оперной классики стоял уже с 1925 года (стр. 257).
Указывая, что «основой репертуара советского оперного театра с первых лет его существования была классика» (стр. 170), Гозенпуд вместе с тем внимательно прослеживает сложный путь борьбы за создание современного оперного спектакля. В работе подробно освещаются те споры, которые развернулись в свое время по вопросу о путях и методах обновления музыкального театра. Рассматривая постановки ряда зарубежных модернистских опер, появившихся во второй половине двадцатых годов главным образом на сценах ленинградских театров, автор подчеркивает порочность этой репертуарной линии, по существу уводившей в сторону от реалистических основ советского искусства. Гозенпуд справедливо отмечает, что особое место в этом ряду занимает «Воццек» А. Берга — произведение драматически впечатляющее и значительное по замыслу, хотя его болезненно экспрессионистическая взвинченность осталась чужда советскому слушателю. Модернистские тенденции, как отмечает Гозенпуд, сказались и на сценической трактовке такого брызжущего здоровьем яркого и жизнерадостного произведения, как «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева.
Нельзя не согласиться с замечанием автора об односторонности истолкования этой оперы «лишь в плане полемики с классической оперной традицией» (стр. 111).
Центральными в книге являются главы VII и XI, посвященные работе театров над новыми операми советских композиторов от первых, еще несовершенных опытов двадцатых годов до таких значительных произведений тридцатых, как «Катерина Измайлова» Д. Шостаковича, «Тихий Дон» И. Дзержинского, «Кола Брюньон» Д. Кабалевского, «Семен Котко» С. Прокофьева, «В бурю» Т. Хренникова.
Значение этих сочинений в развитии советского оперного театра получает в работе Гозенпуда в общем верную и объективную оценку. В частности, это относится к характеристике «Катерины Измайловой», на которой длительное время лежало клеймо формализма.
Спокойную, вдумчиво-объективную оценку находит в рецензируемом труде и другое выдающееся произведение советского композитора, на судьбе которого сказались (хотя и не столь остро) эстетические догмы культа личности, — «Семен Котко» Прокофьева. Гозенпуд пишет о «Семене Котко» как об одной из значительнейших современных опер, «лучшие страницы которой являются классикой русского советского музы-
кального искусства. То, что было самой уязвимой стороной советской оперы, — отсутствие ярких индивидуальных образов, неповторимого, только данному герою свойственного интонационного строя, бледность речитатива, сведение оркестра к аккомпанементу, — было блистательно преодолено Прокофьевым» (стр. 362). В то же время автор не обходит молчанием известную односторонность музыкальной драматургии «Семена Котко», связанную с «полемическим» характером оперы как произведения, направленного против оперной «красивости» (там же).
И в этом разделе книги наибольший интерес представляет анализ самих спектаклей, сравнение разных режиссерских трактовок и актерского воплощения образов различными исполнителями. Так, отмечая неровность музыкального материала и серьезные недостатки композиторского мастерства в «Тихом Доне» И. Дзержинского, автор вместе с тем говорит о положительном значении этой оперы в утверждении современной темы и раскрытии образа современника на сцене музыкального театра.
Особенно выделяет Гозенпуд постановку Театра им. Вл. Немировича-Данченко, в которой, по его словам, «быть может, впервые в оперном театре был применен метод социалистического реализма» (стр. 313).
Исследовательский кругозор автора не ограничивается музыкальными театрами Москвы и Ленинграда, он приводит интересные материалы и о работе периферийных оперных театров. Хочется отметить, в частности, страницы, посвященные опере В. Трамбицкого «Орлёна» (стр. 291–297), которая оставалась вне поля зрения большинства исследователей, вероятно, только потому, что была поставлена в Свердловске (1934 и 1938 гг.).
Можно предъявить к работе Гозенпуда и некоторые претензии. История советского оперного театра представлена в ней преимущественно как история спектаклей. Попутно даются иногда беглые, иногда более развернутые портреты выдающихся артистов, дирижеров, отмечаются те или иные черты в направлении деятельности отдельных театров. Но в книге отсутствует характеристика советской оперно-исполнительской культуры в целом. Обилие непрерывно следующих друг за другом фактов и сведений, хотя в большинстве своем интересных и ценных, придает изложению подчас характер известной хроникальности. Хотелось бы, чтобы основные выводы и обобщения были изложены не столь скупо и лаконично, как это делает в ряде случаев автор. В последней главе автор останавливается на развитии оперной культуры в союзных республиках, но делает это в очень сжатой форме, сводя иногда проблему к простому перечню явлений. Вряд ли стоило включать такой краткий и схематичный обзор в работу, посвященную русскому советскому театру.
И, наконец, последнее замечание, которое должно быть адресовано уже, по-видимому, не к автору, а к издательству: в книге нет ни одной иллюстрации. Если это вызвано соображениями экономии, то едва ли можно считать разумным экономить за счет темы и читательских интересов.
В целом же содержательный, вдумчиво написанный, исключительно добросовестный и насыщенный по материалу труд Гозенпуда заслуживает бесспорно положительной оценки.
Е. Черная
Опера и время
Вопросы музыкальной драматургии еще с прошлого века привлекали внимание музыковедов, но затрагиваются они, как правило, в связи с исследованием творчества отдельных выдающихся композиторов или национальных школ. Попытки же охватить процесс формирования музыкального театра в целом, проследить исторический путь различных школ, направлений, жанров встречаются крайне редко. Недаром «История оперы» Г. Кречмара чуть ли не сорок лет является почти единственным обобщающим трудом на эту тему. Сорок лет — срок немалый. Естественно, что даже весьма проницательные, хотя кое в чем и спорные характеристики и прогнозы Кречмара сегодня уже не могут удовлетворить читателя.
Как известно, в последнее время творчество классиков подверглось за рубежом особенно жестоким нападкам: под сомнение берется уже не жизненность тех или иных эстетических принципов, а даже возможность самого существования жанра. Наиболее радикальные «новаторы», признав положение оперного театра безнадежным, требуют либо отказаться от него, как от явления изжившего себя, либо коренной ломки всех его исторически сложившихся традиций. В свете подобных деклараций появление содержательной работы А. Хохловкиной «Западноевропейская опера» кажется чрезвычайно своевременным.
Книга состоит из ряда очерков, посвященных оперному творчеству конца XVIII — середины XIX веков, и непосредственно затрагивает вопросы, актуальные и для нашего времени, — о роли оперного театра в переломный исторический период.
Вполне естественно, что подытоживая многолетние наблюдения и раздумья автора, очерки развивают и закрепляют положения, отчасти уже сформулированные в предыдущих работах Хохловкиной. Но в них есть и нечто существенно новое — ориентация на широкую аудиторию.
Литературная манера автора своеобразна. В очерках есть что-то от лекций-бесед; отсюда частые обращения к аудитории как бы с наводящими вопросами. Нередко используется прием совместного обсуждения с читателем тех или иных животрепещущих проблем. При чтении книги подчас кажется, что автор находится рядом, у роя-
_________
А. Xохловкина. Западноевропейская опера. Очерки. Музгиз, М., 1962, 367 стр., тираж 9000 экз.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Разлив» 7
- Партия и искусство 19
- «Кружевница Настя» 27
- «Дороги дальние» 34
- «Героическая поэма» 38
- «Куба — любовь моя» 42
- «Шакунтала» 47
- Симфоническая опера 51
- Радости и огорчения 55
- Рассказать о Советском Урале! 58
- Мысли о советском балете 61
- Вместе с композитором 67
- Преодолеть заколдованный круг 72
- Несколько слов о педагогах 74
- Ближе к современности 75
- Частные меры не помогут 79
- Шекспир и музыка 81
- Это звучало в шекспировском театре 85
- Еще раз о «Ромео» 89
- Поет Шапошников 92
- Письмо из Лондона 94
- «Сон в летнюю ночь» 96
- О моем великом соотечественнике 97
- Из отечественной музыкальной шекспирианы 98
- Евгения Мравина 100
- Из воспоминаний 106
- Страничка мемуаров 107
- «Игрок» С. Прокофьева 108
- Гилельс играет в Свердловске 110
- Комитасовцы 111
- Вокальные вечера 112
- Наш друг 115
- Чешский квартет 116
- Альтисты и арфисты 116
- Там, где учился Ленин 118
- Берлинский дневник 124
- «История музыки в иллюстрациях» 128
- Любимый народом 129
- «Катерина Измайлова» в Лондоне 130
- Африканская симфония 132
- «Говорящие барабаны» 139
- В секретариате Союза композиторов СССР: Одна цель, один путь 142
- Страницы живой истории 146
- Опера и время 148
- Наши юбиляры. В. И. Музалевский и Н. И. Платонов 151
- Хроника 153



