МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
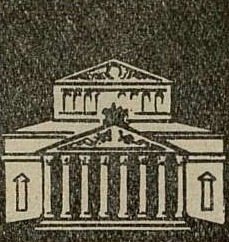
Л. Жукова
Есть ли границы у жанра?
Что это за жанр, оперетта? Что оперетте «показано», а что для нее невозможно? Мы спорим на эту тему из года в год, а один из популярнейших и любимейших видов искусства живет и развивается. И быть может, именно потому, что у него тысячи и тысячи зрителей-поклонников, мы обязаны проявить пристальный интерес к этому жанру. Стремление театров музыкальной комедии отразить события современности, настойчивое желание вырваться из круга той легкомысленной «опереточности», которая в свое время скомпрометировала жанр, все это уже давно начало давать результаты. У опереточных театров есть «золотой фонд», и признанные имена, и портфели (правда, не очень толстые) с новыми названиями, перспективными планами, замыслами, есть талантливые артисты, влюбленные в свое искусство. А вот что это за искусство — об этом судят по-разному, до сих пор так и не придя к «единому» мнению.
Не очень ясная формула «оперетта есть оперетта», выдвинутая в свое время ревнителями ее специфики, так и не разъяснила нам особенности жанра. Ясно было лишь то, что они существуют. В пылу спора возник другой, противоположный взгляд на это искусство, способное, дескать, совместить водевиль и драму, фарс и трагедию, мюзикхолльное ревю и публицистический памфлет. Защитники такого «расширительного» взгляда видели специфику жанра только в синтетичности выразительных
_________
В основу данной статьи положено выступление автора на дискуссии об оперетте, состоявшейся в ВТО в ноябре 1963 года. Публикуется в порядке обсуждения.
средств, в способности соединить музыку, танец, пение, слово. Бесспорно, это признаки оперетты, но нельзя же ими ограничивать характеристику ее особенностей? А тематика? Природа образов, ракурс видения жизни, авторская позиция? Ведь именно это в конечном счете определяет вид любого искусства! То, что в бернстайновской «Вестсайдской истории» говорят, поют и танцуют, не дает же еще права называть ее опереттой! А Брехт! Нет, это искусство прежде всего жизнеутверждающее, если хотите, веселое, полное оптимизма и лукавства даже тогда, когда ноты обыкновенной человеческой печали прокрадываются в его красочный, радостный мир. Разумеется, вместе со временем меняется и характер юмора, сущность комического, но жанр остается жанром. Не случайно некогда чисто комические элементы в опере выделились в самостоятельный вид, оставив драматическую и трагедийную тематику другим жанрам. Так сформировалась первооснова оперетты, вспоенная народным жизнелюбием, юмором. Потом в нее «мощно» проникла декадентская томность «неовенской» школы. Кое-кто сегодня считает, что без надрыва и слез это искусство жить не может. Не этим ли объясняется, что где-то мы стали пренебрегать его главной прелестью: светлыми ясными образами, особым характером музыкального языка. Классические советские оперетты, такие, как «Свадьба в Малиновке», «Вольный ветер», «Девичий переполох», «Трембита», потому и заслужили название классических, что большие темы выражены в них средствами жизнелюбивой, истинно опереточной музыки, которую всегда узнаешь по неповторимым интонациям, по первым же фразам, по общей тональности. В начале пятидесятых годов родились «Огоньки», «Суворочка», «Шумит Средиземное море» — музыкальные драмы, принесшие на опереточную сцену новые, более тонкие приемы актерской игры, но уже наметившие тот крен в сторону драматизации жанра, который так резко, как явное преувеличение, ощутим сегодня. В результате все драматическое стали объявлять «хорошим тоном», все комическое — пережитком. Но откуда эта «дискриминация» комедии? Неужели же открытое и веселое несовместимо с требованиями внутренней правды и реалистично только то, что связано с драматическими событиями? Неужели между драмой и комедией существует строгая демаркационная линия, делящая искусство на «правду» и на нечто среднее между «правдой» и «неправдой»? Не нужно считать, что комедийность и пустое «смехачество» — одно и то же. В свое время именно высокая комедия определила характер французской классической оперетты.
Высокая лирическая комедия — таково главное русло советской оперетты. Совершенно очевидно, что комедия — понятие неоднородное, емкое, многогранное, оттенки смешного разнообразны и подчас требуют тончайшей кисти. Но у советской оперетты есть свой особый вкус к смешному, рожденному самой природой нашего общества. Александр Твардовский говорил на XXII съезде партии: «Кроме смеха гневного, саркастического и непрощающего, есть еще смех радости, дружеской благожелательности, веселого и безобидного озорства». Все грани смешного, все нюансы комедии подвластны опереточной музе. Здесь ей и карты в руки. Здесь ее стихия — в «благожелательном смехе», рожденном радостным чувством бытия, ощущением правоты того дела, которому отдают себя советские люди, строящие коммунизм. Еще и еще раз вспоминаешь «Свадьбу в Малиновке». Недавно эту подлинно народную комедию поставил пятигорский театр, к слову сказать несправедливо обойденный прессой, живой и талантливый. Каким торжеством патриотической темы стал спектакль, воспевающий героику революции, нравственную чистоту нового человека! В какой удивительной, бурно-радостной атмосфере шла старенькая «Малиновка», словно заново открытая театром, какое неугомонное веселье царило в зале! Смеялись и над стариком Нечипором, этим опереточным Щукарем, и над его бабским «гарнизоном», и над ревнивцем Андрейкой, и над сварливой Трындычихой. Смеялись, но уже по-другому, и над бандой, над спесивым и наглым Грицианом, глупым и трусливым Попандопуло, этими рыцарями «батьки Махно», осмеянными самой историей еще задолго до того, как они попали в оперетту. Речь идет отнюдь не о том, что в оперетте должен хозяйничать смех и только смех, что этому жанру противопоказаны драматические мотивы, — смешное и грустное всегда шагает рядом и в жизни и в искусстве. В той же «Свадьбе в Малиновке», как и в «Вольном ветре», и в «Севастопольском вальсе», есть и слезы, и печаль, и раздумья.
В оперетте Б. Александрова, например, глубоко драматична линия Софии и Назара Думы, разлученных на долгие годы революционной борьбой, печальна и судьба женщин в опустевшей в дни гражданской войны Малиновке. А судьба Яшки-артиллериста, этого опереточного Швейка, встретившего руины вместо родного своего села Янковки! И все же в «Малиновке» непрерывно звучит смех, за которым стоит на-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- За высокую партийность искусства 5
- Уважать культуру своего народа 10
- Праздники и будни 12
- Предлагают участники пленума 13
- Быть достойными учителями 17
- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22
- Умное мастерство 34
- Две обработки 36
- Патриотическая эпопея 38
- Таллинские впечатления 42
- Необходима реформа 47
- Преодолеть застой 49
- Воспитывать всесторонне 52
- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54
- Есть ли границы у жанра? 65
- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69
- Размышления после премьеры 71
- Вдохновение и мастерство 79
- Спасибо Вам! 81
- Владимир Валайтис 83
- На международных конкурсах: Имени Шумана 87
- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89
- Рядом с Держинской 93
- Играет Артур Шнабель 96
- В концертных залах 101
- От слов — к делу 110
- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113
- Второе призвание маршала 118
- Энрике Гранадос 122
- Курт Зандерлинг в Берлине 127
- Заметки о «Варшавской осени» 130
- Трагедия западногерманской культуры 132
- Тема обязывает 136
- Коротко о книгах 141
- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148
- Хроника 151



