роводы, кружатся пары крестьянской молодежи... «Храбрая дочь славной Лотарингии, которую убаюкивали народные напевы, а не мистические песнопения, — гласит либретто. — У родной земли она черпала силу, смелость и знания, у зеленых цветущих полей, где звучали песни ее лотарингских друзей детства. Злодеи те, кто помешает цвести полям нашим, кто помешает французским крестьянам освободить родную землю!»
«Мой меч зовется любовью», — говорит Жанна.
Народно-патриотический замысел Онеггера бесспорен, хотя оратория называется лирической мистерией, хотя в стихах Поля Клоделя немало места уделяется «святым» голосам, и прямо над головой Жанны, из небольшой ниши, как бывает в старинных часах, выходит богородица с младенцем на руках. Однако мистические атрибуты не мешают авторам со всей силой гневного протеста осудить кровавых палачей орлеанской героини — судью Кошона, предстающего перед зрителями в отвратительном обличье свиньи, и его сообщников, выступающих под масками зверей: баранов, ослов, лисиц. С гневом и сарказмом авторы бросают вызов и придворной камарилье.
«Как я, бедная пастушка из Домреми, попала сюда?» — спрашивает скованная Жанна.
«Благодаря дьявольским наваждениям и чарам, изобретенным безумным королем», — гласит ответ. Короли, дамы, валеты выходят на авансцену. «Короли с их роковыми спутницами: французский и ее величество Глупость, английский и ее величество Надменность; герцог Бургундский и Скупость. Четвертый король — Смерть... За ними следуют дипломаты-валеты: герцог Бедфордский, Жан Люксембургский, Реньо Шартрский, Гийом де Флави». Начинается их танец — пародия на политическую интригу. Наконец Флави кричит: «Господа, вот ставка в игре: я выдаю вам Жанну-девственницу».
Народ и бог остаются на стороне Жанны. Но если «божественное» начало можно считать во многом данью клерикальной традиции, то народная тема бесспорно определяет сердцевину произведения. Не случайно его музыкальной кульминацией служит упомянутая уже народная песня, так остро контрастирующая своей бесхитростной напевной простотой со сложными политональными красками оркестра, с острой интерваликой хоровых реплик.
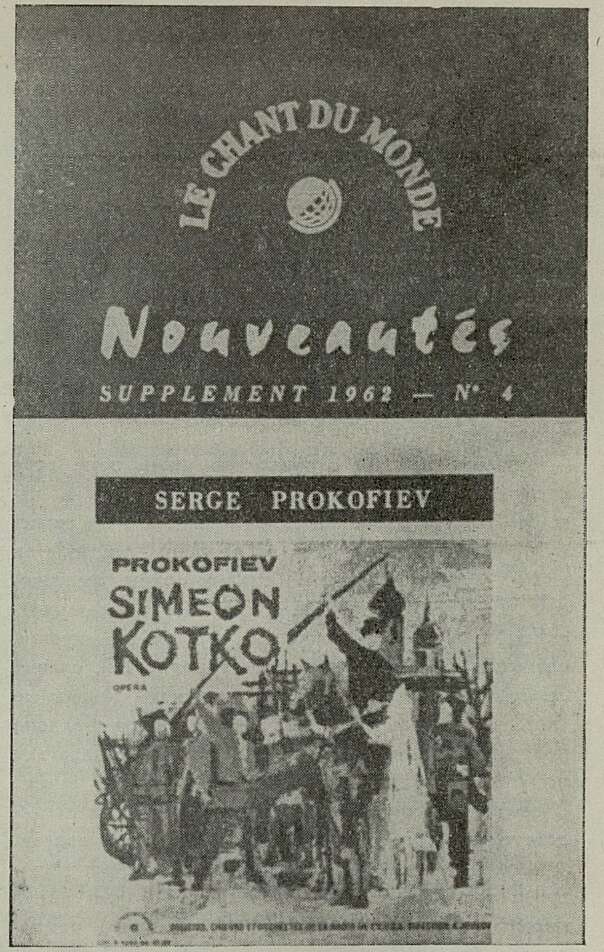
«Да благословенна будет сестра наша Жанна, что стоит, словно пламя, среди Франции», — это одна из последних фраз, завершающих ораторию. Только один единственный эффект допустил здесь режиссер Жан Доат. Но, может быть, он поэтому так воздействует? Белая рубаха, окутывающая ноги Жанны, вдруг загорается ярким пламенем, оно постепенно растет, отхватывая всю ее фигуру. Потом начинает гаснуть, сцена погружается в темноту, и только лицо и рука Жанны долго светятся розоватым отблеском, чтобы затем тоже раствориться во тьме. Впечатление огромно! Здесь, очевидно, сказались присущие французским художникам тонкий вкус и чувство красоты.
Оратория Онеггера на сцене Opéra, пожалуй, была самым сильным художественным впечатлением нашей парижской «декады». Талант актрисы, яркая, оригинальная музыка, превосходный оркестр и хор (дирижер — Луи Фурестье) познакомили нас с истинно французским искусством. Эта встреча никогда не забудется.
Если «Жанна на костре» представила нам современную французскую музыку, то спектакль «Галантная Индия» Рамо, увиденный на той же сцене, явился как бы экскурсом в историю французского оперного театра. И это тоже было очень любопытно.
«Галантная Индия» была поставлена впервые в Королевской Музыкальной Академии 23 августа 1735 года. И хотя теперь музыка Рамо звучала в новой редакции Поля Дюка и Анри Бюссе, хотя бесспорной модернизации подверглась и хореография этой оперы-балета, и, вероятно, многие другие ее элементы, впечатление родилось такое, словно действительно перенесясь на двести с лишним лет назад, мы присутствуем у истоков оперного жанра. Но ассоциации вновь вернули нас и к Вагнеру (хотя бы грот Венеры!), и Верди («Аида»), и к Чайковскому («Пиковая дама»), но заодно и ко многим таким аксессуарам оперного спектакля, которые являются ныне лишь данью традиции.
Однако, как ни странно, по своей теме этот спектакль оказался глубоко современным. В четырех новеллах, вполне самостоятельных по сюжету, с диалогами, хорами и балетом, воспевается победа Любви над злыми силами войны, жестокости и насилия. Новеллы связаны аллегорическими прологом и эпилогом: юноши и девушки, одетые в костюмы различных народностей, славят Любовь. С неба на облачке опускается Венера со своей свитой амуров. Но богиня войны Беллона приглашает влюбленных всех наций отказаться от «легких развлечений» во имя бранной славы. В эпилоге Любовь торжествует победу, что последовательно утверждается и в каждой из новелл.
Очень наивные по сюжету, с длинными ариями и дуэтами эти новеллы вместе с тем вдруг поражают мощью драматического таланта композитора, разнообразием и оригинальностью его фантазии. Достаточно вспомнить сцену бури и кораблекрушения — на глазах у зрителей морские волны разбивают корабль о рифы — в первой новелле («Благородный турок»), написанной с большим темпераментам и ритмической изобретательностью хоровых реплик. Одной из вершин драматического творчества Рамо справедливо считается вторая новелла («Перуанские инки»). Испанский офицер Карлос и инка Гуаскар претендуют на руку и сердце перуанки Фани. Их страстные диалоги и монологи проникнуты огромной экспрессией, которая достигает подлинно трагической кульминации в финале. Отвергнутый Гуаскар в неистовом отчаянии и гневе пронзает себя кинжалом. Драматизм ситуации с большой силой выражен в музыке — в оркестре, в напряженных речитативах Гуаскара. Драматизм нагнетается и сценическим эффектам — начинается землетрясение, извержение вулкана: растет подземный гул, из кратера высокой горы вырывается пламя, летят огромные камни... Здесь как бы в «чистом» виде мы наблюдаем рождение новых средств оперной драматургии, которые займут столь важное место в романтической, да и не только в романтической опере. И как бы ни был наивен этот драматический эффект в своем первородном проявлении, жизненный, яркий талант композитора воздействует и на современного слушателя.
Зато третья новелла («Цветы») во многом содержит давно отжившие традиции придворного жанра. После счастливой развязки незамысловатой истории двух влюбленных пар следует длинный балетный дивертисмент. В тот момент, когда из люка поднимается Царица цветов и начинает свой танец, в зрительный зал ворвался густой запах розы: спектакль был воспроизведен «по всем преданьям старины». Подобное впечатление оставили и пышные кринолины женских туалетов, тяжелые тюрбаны с огромными перьями у мужчин, парики и прочие атрибуты «галантного» стиля.
Два спектакля не дают еще права на обобщения, хотя мы и не услышали в них почти ни одного свежего вокального дарования (о состоянии оперы в Париже расскажут далее публикуемые материалы).
Возвращаясь к «Парижским музыкальным неделям», нужно упомянуть об их итогах. Подведены они были на пятидневном коллоквиуме музыкальных критиков, состоявшемся в конце фестиваля. Как и следовало ожидать, главной задачей организаторов «недель» являлась возможно более широкая пропаганда современной, в основном «экспериментальной» музыки, хотя внешне эта цель прикрывалась объективистским лозунгом демонстрации «всех» направлений. Однако «приливы» и «отливы», наблюдавшиеся в зрительных залах, отрезвили участников дискуссии, заставив их придти к выводу, что «закон спроса и предложения действует во всех областях; поэтому рано или поздно придется вернуться в музыке к общечеловеческим или просто к человеческим концепциям». В равной мере им пришлось согласиться и с тем, что «традиционная» музыка создает «устойчивость, мелодическую и ритмическую уверенность», находящие пути к сердцу широчайших аудиторий. Таков был малоободряющий для «авангардистов» и их поклонников итог шестинедельного «эксперимента» над слушателями. Жаль лишь потраченных организаторами фестиваля времени и средств, которые могли бы быть использованы куда с большей пользой для искусства и для тех, ради кого оно создается.
Вот почему, покидая Париж, мы испытывали весьма разноречивые чувства...
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- За музыку вдохновляющую, зовущую на подвиг! 5
- Народ ждет! 7
- Перемены необходимы 11
- Что подлинно волнует сегодня 17
- Из встреч с замечательным художником 23
- О моем учителе 27
- Письмо из Болгарии 29
- Из воспоминаний о Танееве 30
- Встреча с Гнесиным 35
- Науку, теорию, педагогику — ближе к жизни 40
- Из нашего опыта 46
- О хорах львовских композиторов 48
- Это не только история 51
- Московская консерватория в 1905 году 55
- Вершина вагнеровского реализма 61
- Из писем Вагнера 68
- На выставке 82
- Кирилл Кондрашин 85
- Исполнители Литвы. Валентинас Адамкявичус 90
- Исполнители Литвы. Елена Чудакова 91
- Исполнители Литвы. Александр Ливонт 92
- Литовский камерный оркестр 94
- К. Игумнов — педагог 96
- М. Марутаев и Р. Щедрин 100
- А. Эшпай и В. Мурадели 102
- Горьковчане в Москве 102
- Концерт Якова Зака 103
- Играет Элисо Вирсаладзе 104
- Зарубежные гастролеры... Из Румынии 105
- Зарубежные гастролеры... Из Турции 106
- Зарубежные гастролеры... Из Канады 106
- Квинтет духовых инструментов 107
- На уроках Игоря Маркевича 108
- Письмо в редакцию 110
- Революционные песни Удмуртии 111
- Нам 40 лет! 114
- «Мир композитора» 119
- Ион Думитреску 128
- Восемнадцатая «весна» 130
- Фальсификаторы обвиняют 131
- Йозеф Маркс, человек и музыкант 132
- Встреча с Парижем 134
- «Может ли Париж иметь свою оперу?» 141
- Кризис оперы 143
- О вечно живом творце 145
- Для вас, студенты! 146
- По следам наших выступлений 148
- Молодость революции 149
- «Награда» 151
- Новые грамзаписи 152
- С его песнями шли в бой 153
- Певец в солдатской шинели 154
- С экрана телевизора 156
- Вечер арфы 157
- Они приняты в Союз 158
- О музыке народов СССР 158
- Итоги и планы 158
- Новый квартет 159
- «Музыкальные пятницы» 159
- «Черемушки» 160
- «Мелодия» 160
- Энтузиаст камерного пения 161
- Встречи с читателями 162
- Говорят гости Москвы 163



