ности) помогла мне в конце концов преодолеть естественную робость и обратиться к знаменитому композитору с просьбой заниматься со мной (это было через год после смерти Г. Катуара, по классу которого я окончил музыкальное училище).
Надо ли говорить, как я был обрадован согласием Анатолия Николаевича! Правда, в наших занятиях он не имел возможности в полную меру проявить свое мастерство педагога по сочинению: хоть небольшие композиторские опыты мне казались необходимыми, способностей к композиции у меня нет и приносимый мной материал был слишком незначителен. Зато тем больше времени уделял Анатолий Николаевич разборам музыкальных произведений. Это были поучительные разборы! Показывая в сочинениях крупных мастеров не только достоинства, но нередко и менее удавшиеся моменты, А. Н. был одинаково внимателен и к общим закономерностям формы, и к индивидуальным чертам данной пьесы. Никогда при этом он не навязывал свою точку зрения — просто вел непринужденную беседу о музыке и, казалось бы, даже не ставил своей задачей воздействовать на собеседника, что-то ему активно внушить или тем более «перевоспитать» его. Но насколько же глубоким и действенным было именно такое влияние!
Анализируя музыку, Анатолий Николаевич попутно знакомил меня с разными музыкально-теоретическими системами (например, с системой Яворского) и убедительно показывал, как можно использовать положения этих систем в конкретном анализе. Такой метод был для меня новым: в те годы почти каждый теоретик упорно придерживался какой-либо одной из бытовавших тогда теоретических концепций, и мой прежний учитель Г. Катуар — крупный ученый и создатель своей собственной системы, — понятно, не составлял исключения. Лишь в процессе занятий с Александровым мне постепенно стало ясно, что можно рационально использовать в анализе ценные элементы различных систем. «Все хорошо, что помогает лучше понять музыку» — таков был неписанный девиз Анатолия Николаевича, и этот принцип оказал в дальнейшем большое влияние на мою деятельность.
Естественно, что, когда весной 1928 года я перешел на четвертый курс консерватории и придумал тему своей дипломной работы (в ее «ученом» названии девять родительных падежей следовали подряд: «Опыт критики и синтеза некоторых положений различных систем анализа музыкальных форм»), я попросил Анатолия Николаевича быть руководителем. Снова опасался его отказа и снова обрадовался его согласию.
Во время подготовки дипломной работы и позже, при ознакомлении с моей докторской диссертацией, Александров высказал множество глубоких замечаний. Его, в частности, заботило не только соответствие отдельных теоретических определений природе музыкальных явлений, но и соответствие всей системы определений — всей системе определяемых объектов. Он говорил примерно так: «Мало, чтобы ваши определения были точными, ясными, полными и чтобы каждое из них раскрывало — и без натяжек — какое-то важное музыкальное явление. Надо еще, чтобы существенному различию между двумя определениями действительно отвечало бы существенное различие между самими музыкальными явлениями. А то иногда получается, что реальное отличие в мотивной структуре между двумя построениями не так уж велико (например, abbb и aabb), а по вашей классификации они относятся к очень разным, даже противоположным типам структуры».
Не знаю, много ли есть музыкально-теоретических систем и классификаций, которые полностью удовлетворяли бы этому требованию Анатолия Николаевича (требованию, столь же логичному, сколь и художественному), но помнить о нем и стремиться претворить его в жизнь должен, по-моему, каждый теоретик...
Анатолий Николаевич вел в консерватории очень увлекательный курс «Новейшие достижения в области гармонии» (его называли также «Третья гармония» или «Современная гармония»). Надо сказать, что тогда вообще не было недостатка в интересных теоретических курсах. С. Василенко читал «Новейшие достижения в области оркестровки», М. Гнесин — «Методологию гармонии и контрапункта», Г. Конюс живо и полемично излагал свою теорию метротектонизма (с ним можно было не соглашаться, но скучать на его занятиях не приходилось). Все это были занятия превосходных музыкантов и педагогов, а Конюс и Гнесин к тому же обладали незаурядным лекторским мастерством; главное же — в их воззрениях (особенно Гнесина) было много ценного и поучительного. Но самым музыкальным был курс Анатолия Николаевича. Говорил он немного, да и речь его не претендовала на какой-либо блеск или особую отшлифованность. Как и в индивидуальных занятиях, А. Н. играл, объяснял самую суть дела, и все становилось понятным. Сразу возникало ощущение, что вопрос исчерпан и больше ничего не нужно, хотя «исчерпывающие формулировки», быть может, и не всегда произносились...
Как жаль, что сейчас в консерватории нет та-
ких курсов! Когда я окончил консерваторию, завершились и мои регулярные уроки с Анатолием Николаевичем. Но продолжались встречи с ним и с его музыкой: с лирической оперой «Бэла», с романсами, с квартетами (особенно взволновал меня Четвертый), с сонатами, которые после сонат Скрябина, Метнера и Прокофьева составили новую прекрасную главу в истории русского фортепианного творчества (мне трудно отдать предпочтение какой-либо одной из последних сонат; в смысле стилистической характерности весьма показательна, кроме Двенадцатой, в частности, Десятая, с ярко впечатляющим и очень логичным переходом от «дифирамбичности» главной темы к хрупко красочной, импрессионистичной побочной).
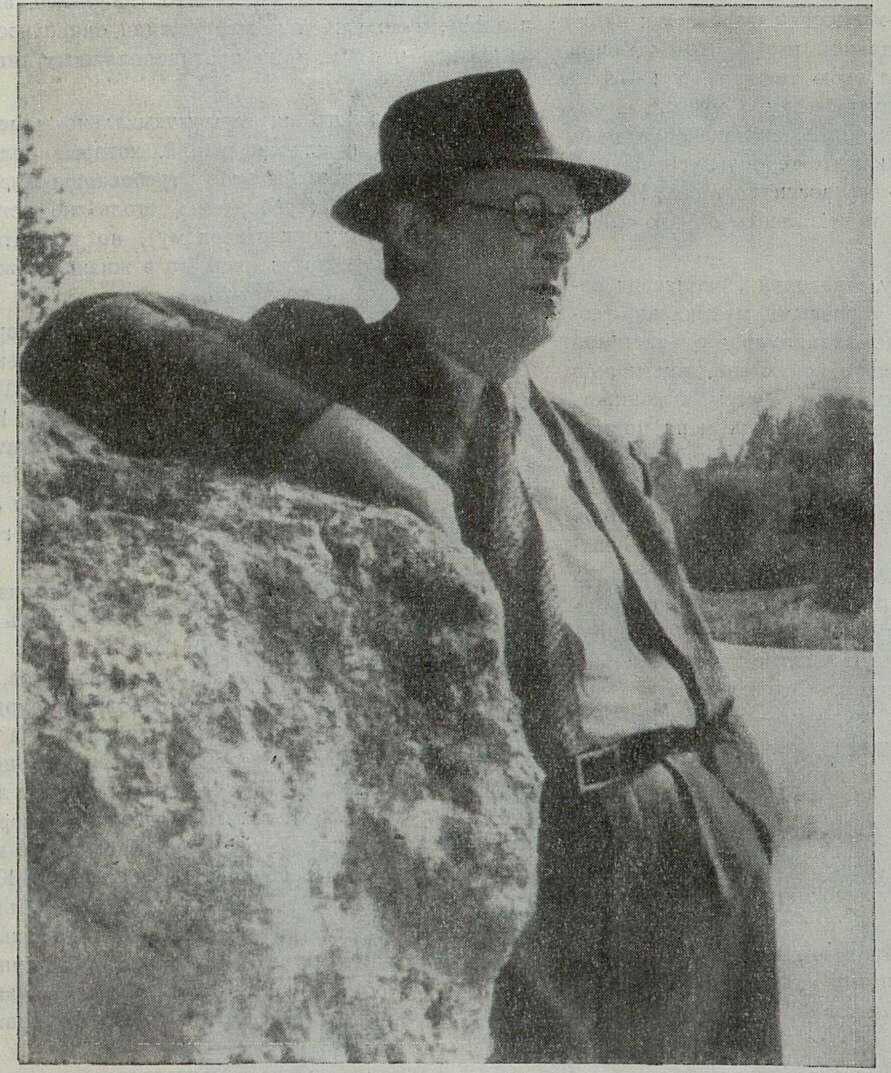
А. Александров в Рузе
В музыке Александрова, полной чудесных рассказов и вдохновенной поэзии, много и великолепной «выдумки», оригинальных тематических находок и убедительных композиционных решений, не подходящих под какую-либо типовую схему. А иногда Анатолий Николаевич по-новому и в необычных жанровых условиях использует особенности «общеизвестных» форм: так, его романс «Брожу ли я вдоль улиц шумных» написан в полной сонатной форме (с разработкой), которую композитор сумел «угадать» в пушкинском тексте и своеобразно воплотить в музыке. Словом, совершенство, изящество и особая изобретательность композиции — неотъемлемые качества музыки Анатолия Николаевича, неразрывно связанные с поэтичностью ее содержания. И если интеллектуаль-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- За музыку вдохновляющую, зовущую на подвиг! 5
- Народ ждет! 7
- Перемены необходимы 11
- Что подлинно волнует сегодня 17
- Из встреч с замечательным художником 23
- О моем учителе 27
- Письмо из Болгарии 29
- Из воспоминаний о Танееве 30
- Встреча с Гнесиным 35
- Науку, теорию, педагогику — ближе к жизни 40
- Из нашего опыта 46
- О хорах львовских композиторов 48
- Это не только история 51
- Московская консерватория в 1905 году 55
- Вершина вагнеровского реализма 61
- Из писем Вагнера 68
- На выставке 82
- Кирилл Кондрашин 85
- Исполнители Литвы. Валентинас Адамкявичус 90
- Исполнители Литвы. Елена Чудакова 91
- Исполнители Литвы. Александр Ливонт 92
- Литовский камерный оркестр 94
- К. Игумнов — педагог 96
- М. Марутаев и Р. Щедрин 100
- А. Эшпай и В. Мурадели 102
- Горьковчане в Москве 102
- Концерт Якова Зака 103
- Играет Элисо Вирсаладзе 104
- Зарубежные гастролеры... Из Румынии 105
- Зарубежные гастролеры... Из Турции 106
- Зарубежные гастролеры... Из Канады 106
- Квинтет духовых инструментов 107
- На уроках Игоря Маркевича 108
- Письмо в редакцию 110
- Революционные песни Удмуртии 111
- Нам 40 лет! 114
- «Мир композитора» 119
- Ион Думитреску 128
- Восемнадцатая «весна» 130
- Фальсификаторы обвиняют 131
- Йозеф Маркс, человек и музыкант 132
- Встреча с Парижем 134
- «Может ли Париж иметь свою оперу?» 141
- Кризис оперы 143
- О вечно живом творце 145
- Для вас, студенты! 146
- По следам наших выступлений 148
- Молодость революции 149
- «Награда» 151
- Новые грамзаписи 152
- С его песнями шли в бой 153
- Певец в солдатской шинели 154
- С экрана телевизора 156
- Вечер арфы 157
- Они приняты в Союз 158
- О музыке народов СССР 158
- Итоги и планы 158
- Новый квартет 159
- «Музыкальные пятницы» 159
- «Черемушки» 160
- «Мелодия» 160
- Энтузиаст камерного пения 161
- Встречи с читателями 162
- Говорят гости Москвы 163



