смена. Иные уже выходят на самостоятельный творческий путь, некоторые же находятся еще «на подходе». От них самих зависит: пойдут ли они прямой или окольной дорогой, «мелькнут» ли по поверхности, или их развитие будет подобно путешествию по необозримому простору, где линия горизонта движется вместе с путником...
Раз уж зашла речь о «внесъездовских» встречах, расскажем не только о молодежи, но и о прослушивании в записи фрагментов из оперы Е. Юцевича «Вулкан» и Туркменской симфонии А. Зноско-Боровского.
Идея оперы «Вулкан» благородна и ответственна: борьба колониальных народов за свою национальную независимость. Автор владеет оперными формами (много арий, ансамблей; развиваются лейтмотивы; собственно вокальные эпизоды перемежаются речитативными сценами). И все-таки то, что мы слышали, во многом не удовлетворяет. В чем тут дело, трудно решить, не видя «Вулкана» на театральной сцене. Но тривиальным показались и либретто оперы, и сам музыкальный материал. Один из главных героев «Вулкана» — молодой офицер итальянец. В его партии много «неаполитанизмов», звуки которых воскрешают в памяти привычные кинокадры: скользит гондола, и великолепный, но бедный тенор изливает прекрасной богатой синьорите свои чувства. Но героиня оперы не прекрасная синьорита, а мужественная дочь одного из порабощенных народов. В ее музыкальной характеристике использовано много экзотических, «южных» интонаций и ритмов. Если к этому добавить еще «среднеевропейский» язык, которым обрисованы белые колонизаторы на далеком «черном» острове (например, обязательный бал, где танцуют не подозревающие о готовящемся восстании «аристократы»), впечатление эклектической пестроты будет полное. Могут оказать, что композитор специально изучал музыкальный фольклор, что восточный колорит в опере носит вполне определенный характер, что смесь «языков» — заданность. Но вся беда в том, что художественного контраста автор захотел достичь механическим, на наш взгляд, соединением разнородных стилистических элементов.
Реальностью, правдой запечатления картин народного быта привлекает прежде всего Туркменская симфония А. Зноско-Боровокого. И хотя недостатки есть и в этом сочинении (тяжеловесной кажется четырехчастная циклическая конструкция, есть «общие места» в разработочных эпизодах, несколько фрагментарен финал), оно увлекает возможностью узнать новый музыкальный мир. Иногда он пестр и красочен, иногда суров и однообразен, но всегда интересен. При большом внимании к моментам изобразительным (слушая ритмические акценты в третьей части, словно видишь «трудный» шаг по пустыне) композитор достиг и необходимой образной обобщенности. Особенно примечательна в этом смысле первая часть симфонии с ее порывистой, пружинной темой главной партии, символизирующей созидательный труд людей сегодняшнего Туркменистана...
И наконец, музыка И. Шамо, которую мы смогли послушать только за четыре часа до отхода московского поезда.
...Улица Калинина, 16, для Киева то же самое, что Огарева, 13, или Студенческая, 44/28, для Москвы. Здесь живут музыканты. И поначалу показалось, что какая-то особая атмосфера художественного творчества просто присуща квартире Шамо. Но прошло полчаса, час... Уже сыграл, автор вокальные циклы на стихи Т. Шевченко и И. Франко, я новый цикл фортепьянных прелюдий, и очаровательные детские пьесы; уже зашел разговор о том, что хорошо бы поднять большую общечеловеческую тему в каком-нибудь синтетическом театрально-симфоническом жанре; уже закипел жаркий спор об опере, а нам хотелось снова слушать музыку и снова разговаривать. Нет, пожалуй, квартира здесь ни при чем. Просто интересно само общение с этим великолепным музыкантом, влюбленным в украинскую народную песенность.
Артистизм. Может быть, это понятие лучше других определяет впечатления от музыки Шамо. Пластика подлинно народного мелодического строя как-то «незаметно» слита в ней с остротой ладогармонического мышления. Пожалуй, в вокальных пьесах (песнях-романсах) на стихи Т. Шевченко это особенно органично. Здесь достигнута непринужденная и естественная, словно бы «природная» красота пения-сказа, присущая кобзарской речи гениального поэта.
И невольно подумалось: почему так скудно была представлена музыка Шамо на съезде? Не-
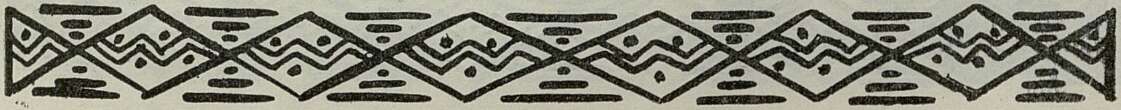
сколько миниатюр — все. А ведь есть квартеты, кантаты, симфонические увертюры, монументальные многоголосные хоры; изданные сочинения горкой лежат на рояле, да и письменный стол, кажется, уже не вмещает авторских рукописей. Что в них? Люди должны узнать...
Еще два концерта — камерный и песенно-хоровой. В первом из них особенно запомнился уже известный широкому слушателю квартет А. Штогаренко «Армянские эскизы»1, а во втором — выступление капеллы «Трембита», о котором хочется сказать несколько сердечных слов. Когда мы слушали в исполнении капеллы отличные сочинения Е. Козака, Б. Лятошинского, Л. Ярошевской, обработки А. Кос-Анатольского, как-то необыкновенно радостно становилось на душе. Сколько в этой музыке истинной красоты, стройности, как органично, свежо претворены в ней элементы фольклора и как интересно, широко использованы возможности хора! И захотелось высказать одно дружеское пожелание молодым (а может быть, не только молодым) украинским композиторам: пусть почаще они обращаются к замечательнейшим традициям народного многоголосного пения, к классическим традициям национальной хоровой музыки. Обращение к таким традициям — не боимся повторить это слово! — «живая вода» для настоящих художников, черпающих вдохновение из чистых родников национального мелоса.
В концерте, о котором шла здесь речь, исполнялись и некоторые массовые песни украинских композиторов. Среди них тоже немало интересных образцов. Назовем, к примеру, песни «Мы умеем с землею дружить» А. Филиппенко, «Комсомольские огни» И. Шамо, «Ехал из армии домой» Т. Шутенко, «Песню о родном заводе» Я. Цегляра. Наверное, приведенный перечень можно было бы продолжить.
Но попробуем лучше назвать те проблемы, которые, как нам кажется, следовало бы поставить в ближайшее время на обсуждение. Вот, например, в Москве что ни год возникают дискуссии о массовой песне. И довольно активной критике подвергается «неосентиментализм», примитив. Остро стоит вопрос об обновлении интонационного, жанрового облика и формы песен, о развитии лучших традиций и народного творчества, и творчества Давиденко, А. В. Александрова, Дунаевского, Захарова.
А разве на Украине не ощущается отставание песенного искусства от требований времени? Не слишком ли однотонна, в частности, палитра лирической песни? Ведь об этом нельзя не задуматься, вслушиваясь в иные напевы, авторы которых повторяют уже сложившиеся штампы, копируют наиболее распространенное, по инерции укрепившееся в быту. Поэтому снова и снова приходится вспоминать старую истину: без открытия нет творчества.
А песни гимнические? Пожалуй, кроме торжественной песни А. Штогаренко «Ленин идет по планете», удач в этом жанре мы почти не слышали. И снова хочется сказать о славных традициях украинской песни. Они ведь великолепно разнообразны и богаты. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о творчестве талантливого Н. Коляды. В свое время (сравнительно недавно) именно на Украине родилась новая чудесная традиция — создавать песни о лучших людях нашей страны, о тружениках колхозных полей. Мы имеем в виду сердечные песни ныне лауреата Государственной премии им. Шевченко П. Майбороды «Про Марию Лысенко», «Про Олену Хобту», «Про Марка Озерного». Разве исчерпаны эти и многие другие традиции украинского песенного искусства? А ведь развиваются они вовсе не так интенсивно, как это могло быть. Возможно, мы ошибаемся, но, по нашему мнению, откровенный, нелицеприятный разговор о песне давно назрел. А с ним тесно связана и проблема развития украинской романсовой лирики. Вот, например, романсы одесского композитора Т. Малюковой-Сидоренко «Осенний этюд» и «Взморье» (слова В. Домбрина). Автора не упрекнешь за плохой вкус, отсутствие профессионализма: мелодия насыщена отзвуками народной песенности, фактура фортепьянного сопровождения достаточно гибка и разнообразна. Но слишком уж назойливо элегичны образы этих романсов. Поискать бы здесь красок живых, современных, индивидуальных! Пусть в романсах будут и элегичность, и драматизм, и нежность, но пусть слышится в них самое важное — самобытный голос художника, по-своему интонирующий то, что он услышал и что только он может так рассказать.
_________
1 См. статью о нем Л. Равиновой-Бас («Советская музыка», № 2 за 1961 г.).
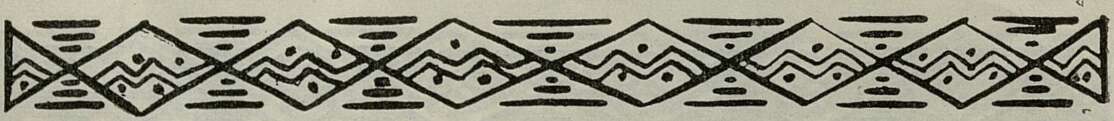
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Чтобы счастье встречалось с нами… 5
- В стремительном движении вперед 9
- Гаджи Керим летит на Луну 12
- Балет-песня 15
- Многообещающее начало 18
- Из киевского дневника 22
- У молдавских композиторов 28
- В Таджикистане 30
- С трибуны Третьего Всесоюзного съезда композиторов 31
- Выступления зарубежных гостей 46
- Дело сложное и важное 50
- Спор продолжается 53
- Мнение бакинских педагогов 55
- Жизненность таланта 56
- На спектаклях Рижского театра 61
- Беречь наследие 69
- Говорят председатели, члены жюри, гости и участники конкурса 77
- Говорят участники конкурса 97
- Народный артист 99
- Кароль Липиньский и его русские связи 108
- Есть причины для беспокойства 112
- Чего ждет молодежь 118
- В поисках нового 120
- Письмо из Таджикистана 122
- Открытое письмо редакционной коллегии газеты «Комсомольская правда» 123
- «Пражская весна» 126
- Музыкант-боец 130
- Проблемы Венской оперы 132
- Душа музыки 134
- Хроники моей жизни 135
- Исследование болгарской пианистки 142
- Книга о гитаре 143
- Античная мысль о музыке 145
- Как хочу, так и пою 147
- Моя «Одессея» 149
- Дружеский шарж 150
- Грабеж под музыку 150
- Говорят делегаты и гости Третьего Всесоюзного съезда композиторов 151
- Музыкальная эмблема мира 154
- Нерушимая дружба 155
- Еще раз о пропаганде 155
- Подарок москвичам 156
- Орловские энтузиасты 157
- Семинар молодых музыковедов 157
- Наш друг Владимир Фере 158
- «Будем учиться дальше» 160
- Большой театр — «Ла Скала» 160
- «Моцарт и Сальери», 1962 161
- Эстонские премьеры 162
- Одесский театр музыкальной комедии 163
- Декада народных театров 164
- В гостях у редакции 165
- Памяти ушедших. С. А. Заранек 166
- Памяти ушедших. А. Н. Аксенов 166



