лазняющей героя «роскошью и красотой», противопоставлены его широкие спокойно-уверенные интонации русского склада. Вспоминая песню Родины (тема грузчиков), Давыдов убедительно и просто рассказывает о любви к России, к Аленушке. Эта сцена с последующим монологом Давыдова — несомненная удача композитора-драматурга. Но таких принципиальных удач все-таки мало. Однотипны музыкальные номера — это или короткая песня, или дуэт-диалог (еще реже трио), где тема проходит поочередно то в одной, то в другой партии. Однообразны их функции. В музыке оперетты нет драматически действенных ансамблей и массовых сцен, в которых столкновение различных интересов давало бы новый стимул развитию действия. Лядовой пока не удалось запечатлеть основной конфликт пьесы в музыкальной драматургии.
Итак, в театр пришел композитор. Его сочинение заинтересовало коллектив. На театральной афише появилось название новой оперетты. Что же ждет зрителя?
Если вы не успели приобрести программу, то легко можно подумать, что у спектакля два режиссера: один с увлечением работал, придумывал, второй был равнодушным, один добивался энергичного нервного ритма, второй растягивал и замедлял темп; что у спектакля два художника: один изображал Париж — условно-пунктирная цепь огней, на фоне которых маячат три зловещих силуэта, огромная черная маска, парящая над сценой, другой с мельчайшими подробностями воспроизводил берег моря в Феодосии. Но режиссер один. И художник один.
Только приблизительно к середине спектакля режиссер, наконец-то, начинает борьбу с малой динамичностью действия. Круг позволяет ему дробить мизансцены, более упругим становится ритм. Интересно применяет Закс принцип двумаршевой лестницы, на площадку которой неоднократно поднимаются герои. Здесь Шакро и Саня поют песню о дружбе. Здесь появляется силуэт Аленушки во время монолога-раздумья Давыдова. Здесь же, как загнанный зверь, мечется одинокий и жестокий Рауль. Хорошо, с выдумкой использована движущаяся по кругу лестница, по которой Давыдов преследует убийцу. Но плохо то, что на этой лестнице артисты часто спотыкаются (видимо, она недостаточно удобна), а при повороте круга зрителям боковых мест видны рабочие части сцены1. Но если вначале могло показаться, что у спектакля два художника и два режиссера, то по мере развития действия возникает мысль, что оперетту исполняют два разных коллектива. Один — молодой, свежий, темпераментный, другой — погрязший во всех опереточных штампах, омертвевший в избитых приемах, интонациях, жестах.
Рядом со строгой, спокойной манерой А. Беседина (Давыдов) особенно контрастно сценическое поведение М. Озолини (Жозефина), построенное на шаблонном «шике» «женщины-вамп»... Естественность С. Бруцина (Шакро) не всегда находит отклик в интонациях и особенно в танцевальных движениях Н. Крыловой (Саня), артистический такт О. Власовой (Шарлотта) еще более подчеркивает развязную грубость манер 3. Тараховской (Люси) и С. Эдельман (Марго).
Усилиями режиссера, художника и исполнительниц ролей Люси и Марго, их многочисленных a parte в зал сцена в кафешантане приобретает настолько недвусмысленный характер, что зритель вправе недоумевать: за кого же его принимают, что так завлекательно-кокетливо приглашают в кафе «Черная маска», где служанки рано поутру выпускают из какого-то кабинета растрепанного мужчину во фраке, находясь сами в достаточно неодетом виде.
Борьба двух сил, разыгравшаяся на сцене, начинает клониться уже явно не в пользу молодости, естественности и живого темперамента, когда появляется С. Аникеев (Казимир Подметкин). Здесь уже трудно говорить просто о штампах, о шаблоне. Аникеев — талантливый актер, вокруг его имени создан определенный авторитет. А когда талант и авторитет «работают» на дурной вкус, это может оказаться опасным; опасно не только для зрителя, но прежде всего для актера, а следовательно, и театра. Разве не видят в театре, что актер уже давно не создает новых образов, варьируя одну и ту же маску, лишенную характера и чувства? Но если даже и видят, то считают, вероятно, это достоинством, так как постановка всячески «усиливает» линию Казимира Подметкина, выдвинув его почти в качестве «хозяина» сцены.
Вместо того, чтобы выделить в пьесе эпизоды, связанные с историей Давыдова, Сани, Шакро, — с главной мыслью произведения, театр подчеркнул все второстепенное, как раз менее всего оригинальное и более всего избитое. Так вторично, уже в сценической интерпретации, оказалась за-
_________
1 Вообще надо отметить, что режиссер и художник сделали павильон удобным лишь для зрителей, сидящих в центре зала. Тем же, кто оказался на боковых местах, слишком часто приходится разглядывать детали декораций, загораживающие от них актеров.
тушеванной великолепная тема, способная многое рассказать о простых людях, принесших России мировую славу.
Озолиня — Беседин, Аникеев — Власова. Это не случайный пример столкновений в Московском театре оперетты различных стилей, различных направлений, различных взглядов на искусство. Устаревшая традиция, привычка, равнодушие и поиски неизведанных путей, творческая взволнованность. Ведь это же встреча нового со старым, борьба, которая идет в театре уже не первый год, идет в каждом спектакле. Как же заканчивается, чем разрешается она здесь, в последней работе коллектива? Что побеждает?
Сомнения рассеиваются в первом же акте. Вот из-за кулис с возгласом «чавела», прикрывая усы пестрой шалью, появляется Подметкин в юбке и начинает куплеты, цитаты из которых приведены выше... Постепенно «ожесточаясь», он пускается в пляс. Высоко вскидываются ноги, подергиваются плечи, бренчит монисто, сотрясается накладной бюст.
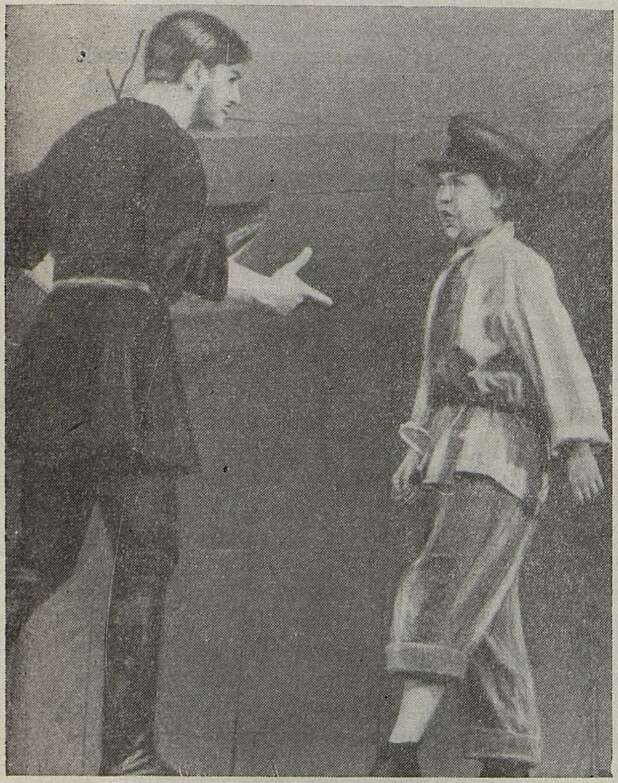
Шакро — С. Бруцин, Саня — А. Котова
Давыдов (Беседин) молча наблюдает за расходившейся «цыганкой». Публика смеется, не замечая, как вместе с легко запоминающейся благодаря своей примитивности песенкой в сознание проникает пошлость.
Как допустил это театр? Почему режиссер не проделал работы, необходимость которой ясна любому, кто сколько-нибудь внимательно познакомился с клавиром? Почему не заставил авторов переписать образ Подметкина, переделать, укрупнить и оживить лирическую линию?
Чем мог заинтересовать талантливых и опытных актеров С. Аникеева и В. Алчевского образ буфетчика? Что думали они поведать этой ролью своим зрителям? Что увлекло их?
Глубоко опечаливает и неожиданно слабый музыкальный уровень спектакля (дирижер Е. Синицын): некоторые исполнители (в частности, М. Озолиня) поют фальшиво, оркестр расходится с певцами, инструментовка оперетты из рук вон плоха. Признаться, мы давно уже не встречались в Московском театре оперетты с таким небрежным, грязным музыкальным звучанием.
В этом спектакле театр соскальзывает с позиций, с таким трудом завоеванных, отказывается от многих своих достижений последних лет.
Большие мастера, умелые организаторы В. Канделаки и Г. Столяров пришли в оперетту, чтобы здесь привить традиции, усвоенные ими в театре, в котором работали Станиславский и Немирович-Данченко, пришли, чтобы передать эстафету, полученную ими от своих великих учителей и руководителей дальше, в будущее.
Будущее... Каждый представляет его по-своему. Работники оперетты, очевидно, видят его в огромном зрительном зале с идеальной акустикой, в сцене с новейшей техникой и в чудесном искусстве, свободном от пресловутой «опереточной специфики», — радостном, звонком массовом искусстве, о котором можно будет сказать словами Асафьева: «омузыкаленное зрелище и зрелищем обусловленная музыка». Да, музыка, наконец-то забыв о незавидной роли иллюстратора, займет подобающее ей место в оперетте, где никого уже не будет удивлять ни симфонически сильный оркестр, ни развитые и сложные формы (ансамбли, хоры). Здесь главным действующим лицом будет смех, смех как «импульс действия» (Асафьев), смех не только для развлечения, но в первую очередь для борьбы с психологией мещанина и обывателя.
Будущее... Оно не приходит готовым к нам. И об этом хочется сказать коллективу театра: «Помните, будущее начинается сегодня, и вы его строители!»
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- Верю партии 9
- Во имя человека 11
- Оправдаем доверие партии 15
- Работать по-новому 16
- Искусство — источник радости 18
- Бережно воспитывать молодежь 19
- Навстречу слушателю 22
- Герой-современник 27
- Композитор, дирижер, педагог 31
- Продолжим дискуссию 37
- Прокофьев и Шенберг 40
- Ново, талантливо, но… 45
- «Крутнява» в Москве 50
- Отход от завоеванного 55
- Театр на гастролях 61
- Радостное знакомство 63
- Гимн миру (из творческих замыслов Грига) 67
- Воспитание творческой самостоятельности 74
- Художник, гражданин 76
- Раскаты грома 82
- Из автобиографических записей 89
- Оган Дурян 99
- Лауреаты конкурса имени Энеску 101
- Славный юбилей 104
- Дирижер, педагог 104
- Советская виолончельная музыка 106
- Встречи с песней 107
- Новое в программах пианистов (М. Воскресенский) 110
- Людмила Филатова 110
- Контрабас — сольный инструмент 111
- Эдуард Грач 112
- На авторском вечере 112
- Павел Серебряков 113
- Премьера третьей симфонии Онеггера 114
- Город смелых, город дружных 115
- Двенадцать дней на Алтае 122
- Незабываемые дни 124
- В Хабаровске любят музыку 126
- У болгарских друзей 128
- Форум музыковедов 133
- Проблемы музыки Востока 140
- Пестрые страницы 145
- Чем бы это кончилось? 148
- Повесть о «Могучей кучке» 149
- Второе издание 150
- Поступили в продажу пластинки 152
- Хроника 153



