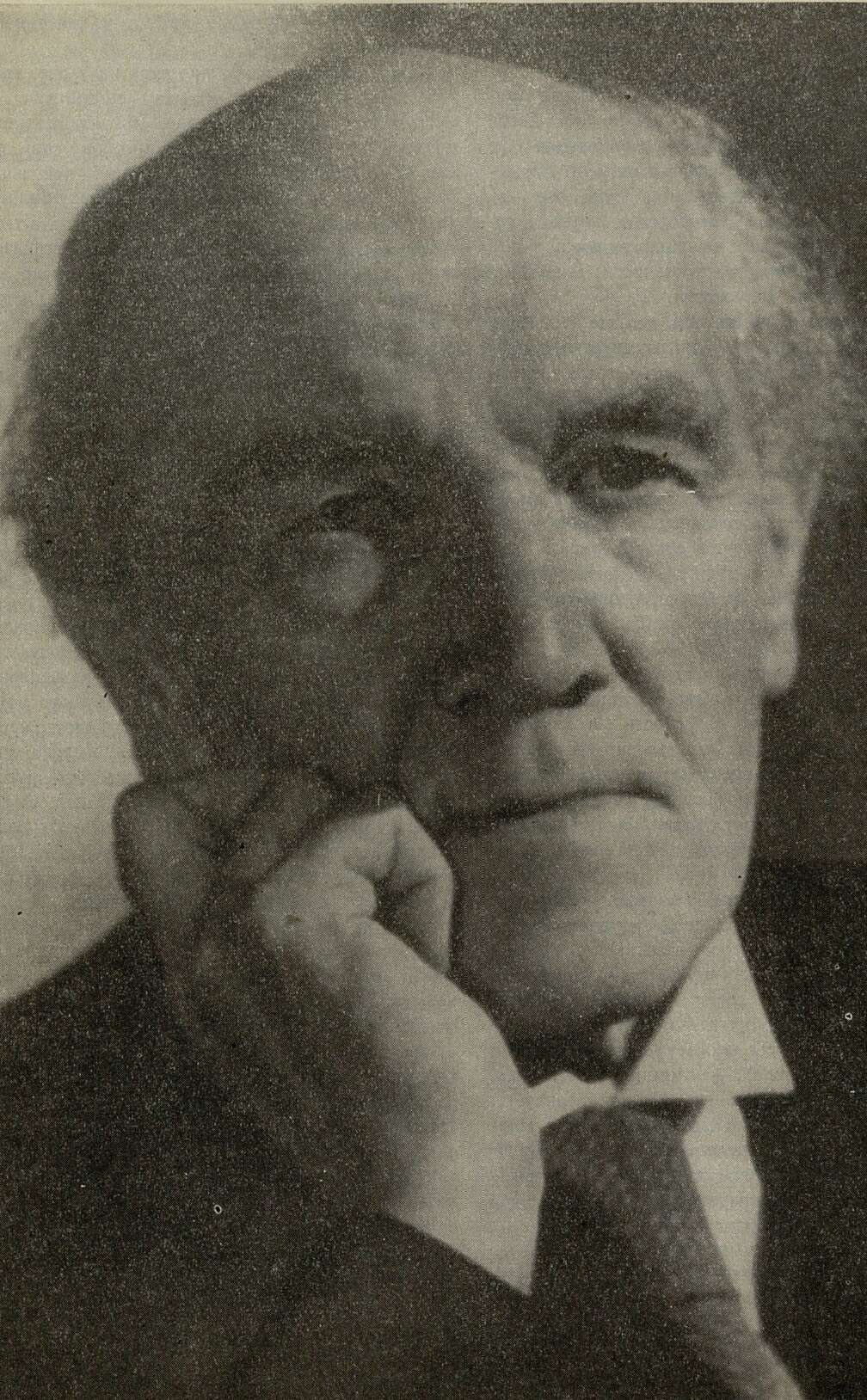
Н. МЕТНЕР
Упрекали Метнера и в «кабинетности», замкнутости, недостаточной чуткости к внешнему миру, к «живой жизни».
Замкнутость эта происходила от разных причин, среди которых были и весьма достойные уважения, наряду с более обыкновенными. Он имея, несомненно, высочайшее понятие о служении искусству — доказательством этого все его творчество и та степень мастерства, которая немыслима без абсолютной преданности своим идеалам, без неустанного, напряженного выковывания своих средств выражения.
К несомненным признакам его мастерства я причисляю в первую очередь изумительное владение формой. Даже при первом, беглом знакомстве с любым сочинением Метнера музыканта всегда поражает органичность, законченность формы, логика развития, последовательность изложения, соподчинение частей во имя целого. Впечатление это только усиливается при более детальном разборе его сочинений, особенно крупной формы, как некоторые сонаты, первые два концерта, сонаты для скрипки и фортепьяно и другие. В качестве особенно яркого примера (крупной формы) приведу хотя бы одночастную соль-минорную сонату соч. 22. Она восхищает не только мужественной драматичностью содержания, но и обилием контрастирующих моментов — тут и нежность, и робость, и глубокое раздумье, и элегические настроения, и неиссякаемая энергия, — но все ведет к ясно намеченной цели, «траектория» сонаты от первой до последней ноты ощущается как одна непрерывная линия!.. Ведь это доступно только очень большим мастерам.
Или вот пример малой формы: «Траурный марш» из соч. 31. Всего две странички текста, а сколько сосредоточенного выражения, сколько глубочайшей скорби, неприятия смерти, охватывающего нас, когда внезапно умирает молодое, прекрасное существо (вот почему нет в этом марше момента просветления, как обычно в похоронных маршах, — вспомним Бетховена, Шопена или Скрябина — в Первой сонате)... Мощная кульминация fortissimo в середине марша напоминает мне предсмертный угрожающий жест Бетховена навстречу внезапно разразившейся грозе... По силе выражения и предельной лаконичности считаю этот марш шедевром.
Один из излюбленных жанров в фортепьянном творчестве Метнера — его «сказки», небольшие музыкальные новеллы. Жанр этот — близкий и к более объемным новелеттам Шумана, и к небольшим интермеццо Брамса, но совершенно оригинальный и новый, благодаря программно-поэтическому содержанию, хотя и не указанному, но угадываемому.
«Сказ», «быль» так и просятся на слова, хотя, как всякая хорошая музыка, совершенно не нуждаются в них. Очевидно, Метнер придавал понятию и смыслу «сказки» особое значение. Он ведь сочинял не только сказки, небольшие пьесы, но и сонаты-сказки, сонату-балладу (в конце концов — тоже сказание). Соната-reminiscenza и впрямь является не только рассказом, но и воспоминанием о чем-то давно минувшем... Цикл «Забытые мотивы» опять настойчиво возвращает к прошлому. Потому, может быть, некоторые считают музыку Метнера «вчерашней», но мне это определение кажется неверным — он сам и его музыка наполнены чувством благоговения и любви к действительно прекрасному, славному прошлому.
*
Когда я играю или просто смотрю глазами его произведения, меня не покидает некоторое чувство чисто «профессионального» (простите это прозаическое слово!), «музыкантского» удовлетворения и удовольствия: так это все хорошо сделано, так умно скомпоновано, так великолепно изложено пианистически... Пусть это даже кому-то покажется смешным: меня восхищает, кроме прочего, чисто редакторская сторона метнеровских опусов. Я с трудом назову другого композитора, который умел бы с такой изумительной точностью и тонкостью зафиксировать в нотном тексте все, что он хочет выразить своей музыкой и желает от исполнителя. Не только вся агогика и динамика, лиги, акценты и т. д., и т. п., но и словесные обозначения, все эти «соn rimidezza», «irresoluto», «sfrenatamente», «acciacato» и т. д. удивительно точно и верно характеризуют и поясняют смысл музыки и помогают ее исполнению.
Из более молодых композиторов эту превосходную манеру точно записывать свое произведение унаследовал от Метнера наш талантливейший Анатолий Николаевич Александров. В симфонической музыке такую предельную точность записи я наблюдал еще только у Малера. И Малер, и Метнер были не только замечательными композиторами, но и вдохновенными исполнителями своих сочинений — вот откуда такая точность и «досказанность» их текстов. (Не обвиняйте меня в мелочности: во мне ведь всегда говорит немножко и педагог, а педагог не может не радоваться, когда видит текст, который при внимательном его прочтении и изучении
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- С трибуны XXII съезда КПСС 7
- По дорогам коммунизма 8
- Симфония о Ленине, о Великом Октябре 14
- «Песни ветровые» 23
- Сказ о земле армянской 29
- Мастер хорового письма 33
- «На заре та ли было, да на утренней» 40
- Пусть крепнет талант 43
- Песня воспитывает нравы 48
- Отклики читателей: Бороться против сорняков — Поучительное письмо — Верная спутница 52
- Наблюдения над современной гармонией 56
- Вдохновенный художник, замечательный человек 62
- Основоположник национальных традиций 64
- Наш учитель 68
- По страницам воспоминаний 69
- Современник Скрябина и Рахманинова 78
- Из переписки Н. Метнера и С. Рахманинова 82
- Мысли о работе пианиста 94
- Исполнитель и звукорежиссер 104
- Вячеслав Сук 108
- Из концертных залов: Открытие праздника «Музыка Советской России» —Новый репертуар пианистов — Самсон Франсуа — Хор большой культуры — Национальный молодежный оркестр — Французская эстрада в 117
- У днепровских круч — в Хакасии — Музыкальные дела Ставрополья 126
- В странах народной демократии: «Евгений Онегин» в Ханое 133
- К юбилею Пабло Казальса: На фестивале в Праде 140
- Пестрые страницы 143
- Хроника 147



