М. САБИНИНА
«Песни ветровые»
О новой оратории Владимира Рубина пока еще говорили и писали гораздо меньше, чем она заслуживает. Но в обычном кулуарном обмене мнениями сразу же наметилось приблизительно такое суждение: хорошо, интересно... однако не повторяет ли автор найденное Свиридовым?
«Повторять» Свиридова... Давно ли откристаллизовалось то, что сейчас можно определить как своеобразную свиридовскую манеру письма, или, точнее, свиридовский строй образности, строй художественного мышления? И разве «собственное» искусство Свиридова представляет собой нечто замкнутое, остановившееся в своем движении? Конечно, нет. Тем не менее оно действительно уже оказывает влияние и можно предсказать, что сфера его влияний, прямых и косвенных, будет активно расти и расширяться. И не только потому, что любое крупное творческое явление находит воспреемников либо подражателей, а и потому, что, когда один художник открывает принципиально новый путь, отвечающий неким важным закономерностям развития искусства, нелепо думать, будто этот путь останется его «личным» достоянием. На него обязательно вступят другие художники, и чем больше их будет, тем больше выиграет разработка идей, принадлежащих зачинателю. При условии, если эти другие будут не имитаторами, а подлинными единомышленниками, если они привнесут и свое, заветное, глубоко выношенное. Таково отношение и В. Рубина к некоторым творческим принципам Свиридова.
Аналогия этих двух композиторских имен вызвана не сходством (и тем более — не заимствованием) формальной схемы. Суть ее — в родственном подходе к поэтическому тексту, к взаимодействию слова и музыки, в новом утверждении огромной емкости ораториального жанра, который одновременно обладает возможностями конкретно-сюжетного повествования и высокого обобщения.
Толкование оратории как монументальной фрески, с характерным сочетанием этико-гражданской, исторически значительной тематики и лапидарной четкости, простоты, демократической направленности форм и выразительных средств, — открыто не сегодня. Это общеизвестно и вряд ли стоит пускаться в исторические экскурсы, приводя в пример Генделя и других великих творцов прошлого. Но сегодня оно приобретает особое, весьма актуальное значение. Проблема искусства монументального, понимая под ним искусство общенародное, массовое, искусство большого социального звучания, неразрывно связана с настоящим и будущим художественного творчества нашей страны и тех стран, где крепнут демократические силы, где пробудился дух свободного национального самосознания — например, в странах Африки и Латинской Америки. Явления, подобные фресковой живописи Ороско и Риверы, глубоко симптоматичны.
Особенно сильны подобные тенденции в советском искусстве. Ведь, к примеру, «Василий Теркин» и «За далью — даль» —
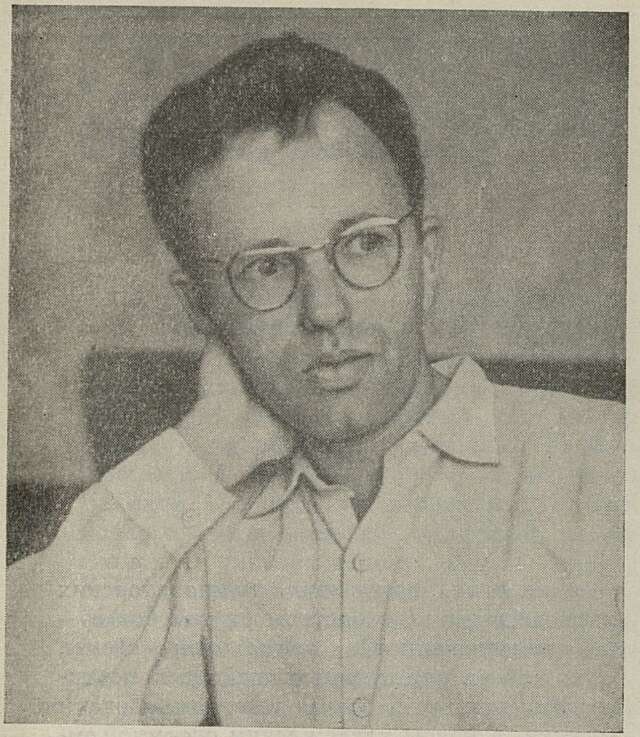
не просто выдающиеся достижения нашей поэзии, но вехи ее направления; их пафос — в выражении общенародного, в глубоком осмыслении сложной духовной сути современности. Происхождение их восходит к «Возмездию» и «Двенадцати» Блока, где русская лирическая поэзия вновь сомкнулась с эпосом, где могучий поток жизни в ее исторических катаклизмах стал главным предметом отражения.
Пожалуй, наиболее полное осуществление в музыке эти тенденции находят в «просторном» жанре оратории — жанре, вобравшем в себя элементы народного эпического «действа» и драмы, синтезирующем песенность и богатейшие средства симфонической драматургии. Из этого вовсе не следует, что другие музыкальные жанры могут быть ею оттеснены. И в них совершаются накопления новых качеств, и они подвержены внутренним изменениям. Одиннадцатая и Двенадцатая симфонии Шостаковича убедительно говорят о движении большого симфонизма нашего времени навстречу драматической программности. А опера — разве не примечательно, что опера всегда в той или иной мере прибегала к ораториальности там, где требовалось воплотить народно-национальные образы, социально-исторические концепции?
В поэме «Памяти Сергея Есенина» и «Патетической оратории» Г. Свиридова завоевано слияние лирики и эпоса, вечная тема Человека раскрыта в ее гражданском звучании, через осознание новых судеб Родины. Та же идейно-художественная концепция получает индивидуальное преломление в «Песнях ветровых» Владимира Рубина.
*
Для тех, кто знает В. Рубина только по композиторскому портфелю, «Песни ветровые» могли быть неожиданностью. Ни крепкий профессионализм ряда его симфонических вещей, ни театральность, броскость характеристик и веселый юмор «Трех толстяков», кажется, не обещали рождения опуса такого размаха, как эта оратория. Но она принадлежит к тем произведениям, в которых «вдруг» обнаруживается давно и подспудно созревающее, постепенно обдумываемое. Создавалось произведение долго и трудно — целых три года. При окончательной отделке значительная часть первоначально сочиненной музыки осталась неиспользованной — слишком разрастались контуры, разбухала драматургия. «Экономия» пошла на пользу: несмотря на свои солидные размеры, «Песни ветровые» отличаются стройностью и монолитностью.
Как часто ораториально-кантатные произведения губила сюитность, утомительное, лишенное драматического стержня нанизывание жанровых картин по определенному, ставшему шаблонным «маршруту»! Усиление сюжетной конкретности, известная театрализация — лишь один из возможных путей выхода; более сложный, но и более эффективный путь — поиски стержневой идеи, настолько крупной, чтобы она смогла «держать» всю конструкцию, служить импульсом, объединяющим все звенья. Тогда и пресловутая статичность перестает быть непременным свойством жанра, она перерастает в иное качество — в подлинную, действенную монументальность.
В. Рубину это удалось. Он нашел драматургическое построение, мотивированное идейно-образным содержанием текста. Это построение развивается словно бы по спирали, отчасти напоминая сонатно-симфони-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- С трибуны XXII съезда КПСС 7
- По дорогам коммунизма 8
- Симфония о Ленине, о Великом Октябре 14
- «Песни ветровые» 23
- Сказ о земле армянской 29
- Мастер хорового письма 33
- «На заре та ли было, да на утренней» 40
- Пусть крепнет талант 43
- Песня воспитывает нравы 48
- Отклики читателей: Бороться против сорняков — Поучительное письмо — Верная спутница 52
- Наблюдения над современной гармонией 56
- Вдохновенный художник, замечательный человек 62
- Основоположник национальных традиций 64
- Наш учитель 68
- По страницам воспоминаний 69
- Современник Скрябина и Рахманинова 78
- Из переписки Н. Метнера и С. Рахманинова 82
- Мысли о работе пианиста 94
- Исполнитель и звукорежиссер 104
- Вячеслав Сук 108
- Из концертных залов: Открытие праздника «Музыка Советской России» —Новый репертуар пианистов — Самсон Франсуа — Хор большой культуры — Национальный молодежный оркестр — Французская эстрада в 117
- У днепровских круч — в Хакасии — Музыкальные дела Ставрополья 126
- В странах народной демократии: «Евгений Онегин» в Ханое 133
- К юбилею Пабло Казальса: На фестивале в Праде 140
- Пестрые страницы 143
- Хроника 147



