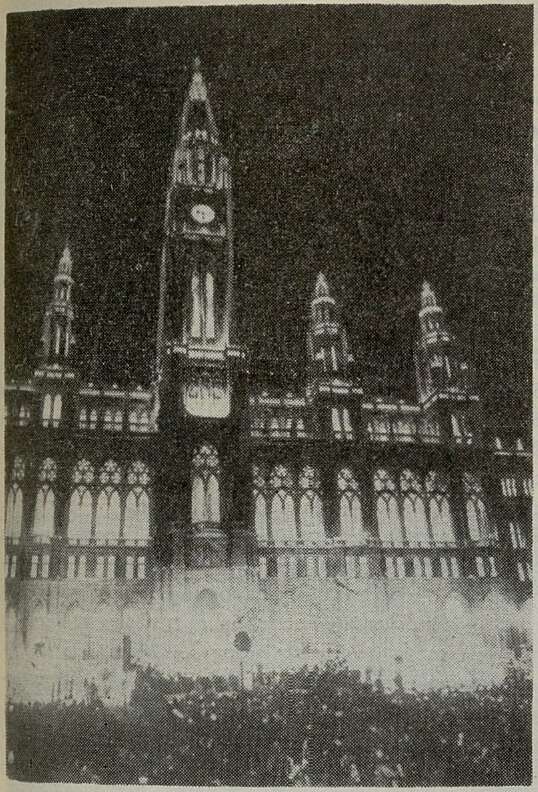
Празднично освещенная ратуша
где услышала импровизированный дуэт. Одним из певцов был доктор Леопольд Фоллер — ученый, моцартовед, влюбленный в искусство своего гениального земляка и отлично знающий его жизнь и творчество; другой — шофер нашего автобуса. Под аккордеон, взятый у хозяина ресторанчика, доктор Фоллер начал демонстрировать нам местные песни. Шофер мгновенно их подхватил. Пели они много — старинные и новые песни, студенческие, охотничьи, монастырские, любовные, шуточные, пели в той же душевной и безыскусной манере, что и венские любители. Это была поистине музыка для себя и друзей, весьма заразительная по общительности интонации. Нам даже захотелось ответить тем же, но, увы, попытка не удалась: непривычны мы, музыканты-профессионалы, к домашнему пению и из текста помним разве что первые две строчки. Выручила Прибалтика: литовский композитор Э. Бальсис и его жена так же дружно и складно пропели литовские песни.
Отсутствие разрыва между любительским, домашним музицированием и высокой профессиональной культурой показалось мне одной из самых привлекательных черт австрийского художественного быта. И, пожалуй, вот еще что — прочные связи собственно исполнительства и музыкальной науки. Казалось бы, последняя рассматривается здесь в сугубо академическом плане, ее изучают даже не в консерваториях, а в университетах. Но вот доктор Бернгард Паумгартнер, руководитель оркестра и хора зальцбургского Моцартеума, выступлениями которого мы недавно восхищались в Москве (теперь мы вновь услышали его на репетиции коронационной мессы Моцарта в зальцбургской церкви «Мариа Пляйн»), является одновременно выдающимся музыковедом-исследователем; его перу принадлежит одна из лучших монографий о Моцарте, созданных за последние двадцать лет. Да и его бывший ученик доктор Фоллер вскользь упомянул как-то, что в оркестре Паумгартнера он переиграл чуть не всего Моцарта; во время же органного концерта в церкви «Святой Эрентруды» (современной архитектуры с великолепными фресками Вакейро Турциуса) он прошел наверх — помочь, если понадобится, исполнителю, молодому, но уже поражающему виртуозностью органисту, доктору Стефану Клинда.
Сказывается ли в такой разносторонности давнишнее умение австрийских и немецких музыкантов владеть многими инструментами или дело здесь в потребности своими руками «делать музыку», не знаю. Думаю, что присущая им еще с баховских времен профессиональная приспособленность и цеховая гордость отложили глубокий след и в сознании, и в методах обучения музыкантов. Во всяком случае упор на непосредственное участие в «делании» музыки отчетливо проявляется даже в системе массового обучения ей школьников.
Благодаря любезности инспектора народных школ в XIX округе Вены Хедвиг Митис, с которой обстоятельства уже сводили меня несколько раз, мне довелось присутствовать на музыкальных занятиях в начальной и средней школе. В первом классе шестилетние дети, только что вернувшиеся с традиционной весенней прогулки в лес, делились своими наблюдениями с учительницей. Организовано это было в виде музыкальной игры. Дети называли цветы, насекомых, птиц, стараясь воспроизвести голосом, на маленькой флейте или треугольнике (эти инструменты во время урока лежат перед каждым учеником) птичьи напевы. На доске были нарисованы три группы цветов, расположенные примерно так, как на нотном стане изображаются трезвучия, отрезки гаммы и несложные каденционные обороты. Это были «заготовки» для детской импровизации. Школьники разделились на две группы — «цветы» и «пчелы». «Цветы» должны были манить к себе пчелу, пропев на текст «иди ко мне» одну из музыкальных фигур, изображенных на доске, а «пчелы» — прожужжать в том же ритме ответную фразу.
Задача, казалось бы, простейшая, но все же требующая от детей активного музыкального мышления. Конечно, она не всем оказалась по плечу: некоторые ребята стеснялись, бормотали что-то невнятное. Тогда учительница, взяв их за руки, начинала шагать с ними по классу в ритме фразы или предлагала акцентировать сильную долю на тамбурине или треугольнике. Однако большинство ребят проинтонировали с листа «цветочный» рисунок легко и уверенно, словно в самом деле читали по нотам.
Меня это немножко удивило. Но тут выяснилось, что в обиходе школьников, даже начинающих, есть ряд подобных кратких мелодических формул, которые составляют, так сказать, их повседневный музыкальный «рацион». Это приветственные, прощальные, благодарственные, заключительные, шутливые, поздравительные попевки. (Вот и прощаясь с нами, ребята по первому же знаку весело и стройно пропели фразу в духе наивных изречений «Волшебной флейты», что-то вроде следующего: «Гостям пора домой идти, желаем доброго пути».) Они являются образчиками для детских импровизаций. Они же постепенно подводят ребят к освоению нотной грамоты.
Однако сознательное изучение музыкальной теории начинается только в средней школе, с четвертого класса, то есть, примерно, с двенадцати лет. В средней школе урок при мне вела весьма опытная и квалифицированная преподавательница Элеонора Слоукуп, считающаяся одной из лучших в своем округе. Как умело и просто преподнесла она классу в тридцать человек теоретическую премудрость. Речь шла о метре и ритме, тактовой черте, сильных и слабых долях; немножко затронут был и лад. И опять широко использовалась активность самих учащихся. В известной мере продолжал действовать и элемент игры, но уже рассчитанный на возраст подростков. Метрические и ритмические закономерности дети выводили сами, скандируя написанные на доске слова песни, расставляя акценты на ударных слогах и отделяя их тактовой чертой. Сами они намечали и особенности ритмической группировки. Таким образом педагог подвел их к записи ритмического рисунка песни; запись высоты на нотоносце была освоена ими раньше. Все делалось без нажима, с забавными игровыми заданиями. Попутно дети знакомились с понятием ансамбля. Песня, пропетая хором, одновременно звучала в исполнении школьных литавр, барабана, уже знакомой им флейты и маленького фортепиано на полторы октавы.
Пожалуй, единственный упрек, который можно предъявить этим интересным и продуктивным школьным занятиям, заключается в том, что певческий репертуар, предлагаемый детям, мало современен. В основном звучали песни, вероятно, еще прошлого века, воспитывающие любовь к природе, родителям, родине, мило сентиментальные, но все же немного старомодные. Думается, что ребятам нужны и какие-то более современные слуховые впечатления. Об этом, кстати, упоминал и председатель австрийского Союза композиторов доктор Шоллум. По его словам, во время недавней поездки в Москву его приятно удивило обилие новых школьных, массовых песен, вошедших в обиход подростков. Он считает, что одна из важных задач их Союза — повлиять на обновление школьного певческого репертуара. Некоторую узость в выборе материала он ставит в упрек даже Орфу, создателю знаменитого Зальцбургского педагогического института. Орф, по словам Шоллума, слишком уж привержен к баварскому фольклору, да еще XVI века.
В Зальцбурге нам довелось познакомиться с практикой этого института. В основе метода Орфа1 лежит то самое активное музицирование, к которому стремятся и венские школьные учителя. Но приемы активизации детского музыкального мышления используются тут гораздо смелее, многообразнее и ярче. Да, Орф влюблен в музыку XVI века, влюблен потому, что считает самую эпоху кульмнацией в развитии совместного любительского творчества. Возродить эту благородную традицию, дать возможность детям насладиться участием в коллективном музицировании, приучить их вносить свою лепту в общий творческий процесс он считает величайшей задачей современного педагога. Музыкальная инициатива, пробужденная и воспитанная в школьные годы, должна послужить позже защитой от лавины механически воспроизводимой музыки, способной подавить творческие импульсы и сделать человека лишь пассивным потребителем музыкального «крошева».
Школьный оркестр Орфа состоит из духовых, ударных, шумовых инструментов, овладеть которыми можно без особых усилий. За короткое время дети независимо от степени их одаренности выучиваются играть на нескольких инструментах. Орф и его ближайшая помощница профессор Гундель Кеетманн создают для таких ансамблей мзыку, разнообразную по звучанию, форме и стилю. Игра оркестра обычно сочетается с хоровым или сольным пением, а также с танцем. Орф и его последователи считают, что для эстетического воспитания детей нужно искусство синтетическое. Но наи-
_________
1 О музыкально-педагогической системе Орфа подробно рассказывалось в статье О. Леонтьевой «Карл Орф — для детей», «Советская музыка» № 7, 1963. — Ред.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Великое столетие 5
- Наш дорогой учитель 14
- Большой ученый 25
- Субъективные заметки 29
- Радость бытия 37
- О прошлом и настоящем 42
- Творец «Интернационала» 51
- Годовщина 18 марта 1871 года 59
- Реставрировать или творить? 60
- Радости и заботы 69
- Трудолюбивый коллектив 74
- Романтика наших дней 81
- Развивать камерное пение 83
- Талантливая певица 88
- Говорят члены жюри 90
- Говорят члены жюри 95
- Говорят члены жюри 97
- Говорят члены жюри 98
- На иркутской премьере 101
- Современник Дебюсси 107
- Из воспоминаний 115
- «Парад» Сати 116
- Первое прикосновение 120
- Полмиллиона друзей 129
- На родине Гайдна и Моцарта 133
- Они будят мысль 139
- Юным читателям 140
- Удачная попытка 142
- Зарубежная литература о гармонии 143
- Песни и романсы русских поэтов 149
- К 100-летию Московской консерватории 150
- Новое в новом сезоне 151
- 250 вводов 154
- В год юбилея 155
- К 70-летию А. Г. Новикова 155
- Его стихия — симфонизм 156
- По большому счету 156
- Замечательный педагог 157
- Из записной книжки композитора 157
- Форум эстонских музыкантов 158
- Эстония — РСФСР 159
- Нам сообщают из Армении 159
- Песни над Антарктикой 160
- Дружбе крепнуть! 160
- Молодость балета 162
- Новые фильмы 162
- Основная сила — молодежь 163
- Письма в редакцию 164
- В мастерской художника 164
- Памяти ушедших. Г. Г. Галынин 165
- Памяти ушедших. С. П. Преображенская 165



