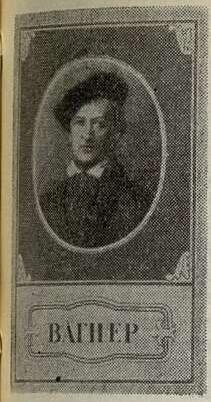
ра, его творчество, отмеченное радикальным новаторством и рождавшее ожесточенные споры, редкая многогранность музыкальной и общественной деятельности, наконец, большие противоречия его мировоззрения и творческих принципов — все это ставит перед любым исследователем и популяризатором чрезвычайно сложные и ответственные задачи. Можно с удовлетворением отметить, что в целом автору удалось разрешить эти задачи. Книжка написана живо. Не замалчивая противоречий и ошибок Вагнера, Кенигсберг в то же время не «нажимает» на них. И это правильно. Юному читателю прежде всего нужно знать, в чем проявилось величие Вагнера, чем он обогатил мировое искусство. Самоотверженное и бескорыстное служение искусству, необыкновенное упорство в достижении чисто художественных целей — эти стороны облика Вагнера хорошо выявлены автором и имеют несомненное воспитательное значение.
Некоторые возражения, однако, вызывает рассмотрение творческого пути Вагнера. Как бы ни были увлекательны его жизнь, истории постановок его опер и т. д., в центре внимания должна быть музыка великого композитора, ее направленность в развитии, ее особенности. Нам кажется, в этом смысле, что характеристика первых трех опер слишком обща. Между тем эти оперы, будучи написаны в разных жанрах, уже указывают на эволюцию творчества молодого композитора, определяют влияния, им испытанные. Желательно было бы упомянуть здесь о кружке «Молодая Германия» и о том громадном впечатлении, какое произвела на Вагнера французская «большая опера» (ведь это было одним из толчков не только для создания «Риенци», но и для рискованного путешествия в Париж!).
Более серьезный упрек относится к освещению оперного творчества Вагнера 40-х годов. Кенигсберг пишет об успехе дрезденских постановок опер «Риенци», «Летучий голландец», «Тангейзер». Это неточно. Известно, как остро переживал Вагнер неудачу у публики «Летучего голландца» после блестящего триумфа «Риенци», оперы несравненно более поверхностной. Не принесла Вагнеру удовлетворения и постановка «Тангейзера». Дело, конечно, не в каких-то подробностях, а в том, что движение Вагнера вперед, по пути создания глубокого и идейно насыщенного искусства наталкивалось на непонимание и равнодушие специфической аудитории полуфеодальной Германии. Думается, что хотя бы вкратце следовало упомянуть об этом как одной из причин участия Вагнера в революции 1848 года. Наконец, необходимо было в заключительном разделе брошюры (стр. 122–126) подытожить значение Вагнера как реформатора и кратко, но вполне конкретно указать, в чем именно сказалось новаторство Вагнера в области оперы. Кенигсберг перечисляет отдельные просчеты Вагнера-драматурга, но им не противопоставлены его положительные завоевания, и лишь вскользь говорится, что «в своей реформе Вагнер стремился обновить музыкально-выразительные средства» (стр. 124).
В освещении вагнеровских опер слишком превалирует изложение сюжета над характеристикой собственно музыкальных образов. Особенно это чувствуется в разделе, посвященном «Кольцу нибелунга». Получается так, что «Кольцо» — это просто очень интересное, глубокое по идейному содержанию произведение, с рядом великолепных по музыке сцен. Но читателю не будет ясно, что цикл составляют новаторские музыкальные драмы, что названные знаменитые сцены тоже весьма своеобразны и почти не имеют прототипов в творчестве предшественников. Наконец, основа основ вагнеровского творчества — принцип лейтмотивизма почти вовсе оставлен без внимания. Высказанные замечания относятся, вероятно, не только к автору, но и к издательству, от которого во многом зависел, очевидно, профиль работы. В частности, именно книжку Кенигсберг там решили почему-то выпустить без единого нотного примера, тогда как в большинстве книг той же серии их помещено немало (Бородин, Чайковский, Григ, Дворжак, Сибелиус, Пуччини и другие). Как известно, вагнеровские темы, особенно лейтмотивы, занимающие к тому же по одной нотной строчке, привести в виде примеров было бы очень удобно. Отсутствие примеров не только обедняет данную брошюру, но и нарушает принцип, избранный для всей серии.
* * *
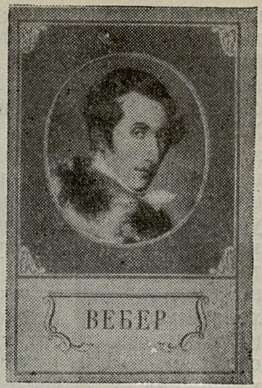
Книжка Кенигсберг о Карле-Марии Вебере вышла в 1965 году. К ней прежде всего относится то, что говорилось об особом месте некоторых книг указанной серии: она является первой советской монографией о Вебере.
Короткая, но непоседливая и полная приключений жизнь Вебера давала благодарный и богатый материал для занимательного очерка, и этот материал оказался, в общем, хорошо использованным. Всесторонне освещен жизненный путь немецкого композитора. Поэтому, как и брошюра о Вагнере, монография о Вебере вышла живой и интересной, хотя вторая из них — о Вебере — оставляет впечатление меньшей цельности и глубины (отчасти в этом «повинен» сам композитор, биография которого при всей насыщенности событиями не содержит столь захватывающих и значительных моментов, как биография Вагнера).
Несколько расплывчатой оказалась характеристика эпохи, в которую развивалось творчество молодого Вебера. Читатель может понять только то, что время это было очень интересное, богатое блестящими именами. В самом деле, на стр. 4–5 соседствуют имена Гёте, Гейне, Гофмана, Гайдна, Бетховена, Шуберта, Шумана и даже Вагнера — то есть объединены в одно целое четыре поколения. И здесь, конечно, напрашивается принципиальный во-
прос: не следовало ли прямо, без обиняков, повести разговор о романтизме? Думается, необходимо было, не углубляясь в сложные проблемы его эстетики и противоречий, рассказать юным читателям о новом направлении искусства первых десятилетий XIX века и объяснить, как оно претворилось в музыке (о романтизме в литературе школьники, очевидно, должны уже иметь некоторое представление). Без таких предварительных объяснений частые упоминания о романтиках становятся не очень понятными, а иногда могут даже дезориентировать читателя. Так, на стр. 31 читаем: «Вебер впервые осуществил тот синтез творца и критика, который так характерен для композиторов-романтиков — Шумана, Берлиоза, Листа, Вагнера. Однако (!) Вебер в своих статьях, в отличие от многих романтиков, утверждал связь искусства с жизнью». Конечно, эти две фразы просто неудачно сочетаются, но, если бы о романтиках был разговор раньше, читатель, вероятно, догадался бы, что чему противопоставляется.
К числу недочетов относится также перегруженность изложения излишними подробностями. Вообще читателю интересно узнать, с какими будущими знаменитыми деятелями сводила Вебера судьба (например, с мальчиком-подростком Рихардом Вагнером), и Кенигсберг не упускает случая отметить подобные примечательные факты. Но иногда автору изменяет чувство меры, и тогда кажется, что каждое лицо, даже каждый географический пункт просто обязаны иметь свою занимательную «биографию». Так ли уж было необходимо вновь упоминать Вагнера на стр. 28 в связи с тем, что Вебер любовался окрестностями Штарнбергского озера, где позже (через полвека с лишним!) поселился Вагнер. Сами по себе все детали очень интересны, но в массе своей вредят целому. Излишняя детализированность сказалась, между прочим, и в изложении либретто «Вольного стрелка»1. Если для специалиста как раз такое подробное описание содержания либретто со всеми присущими этому литературному тексту нелепостями и нагромождениями полезно для правильной оценки оперы, то широкому кругу читателей можно было дать более сжатый и компактный пересказ. Кстати, нужно было обязательно раскрыть здесь же, в IV главе, своеобразие жанра этой оперы, ее связь с немецким зингшпилем. Но об этом лишь вскользь упоминается в разделе об «Эврианте».
К числу более мелких погрешностей относятся некоторые не очень продуманные характеристики отдельных деятелей. Так, довольно странно выглядит портрет Э. Т. А. Гофмана на стр. 27, где определение «романтик-фантаст» не раскрывается, а вместо этого отмечается, что его облик вдохновил Оффенбаха на создание оперы «Сказки Гофмана». Уж если говорить о музыкальных произведениях такого плана, то прежде всего следовало назвать «Крейслериану» Шумана, «Щелкунчика» Чайковского, «Коппелию» Делиба, то есть произведения, которые наиболее наглядно знакомят читателя с гофмановскими героями. Но вообще Гофман именно в связи с Вебером заслуживал более яркой и полной характеристики.
В монографии о Вебере, к сожалению, встречаются неточности. Особенно «не повезло» писательнице Хельмине Чези. Неясно, среди каких романтиков в самом начале XIX века (стр. 54) проводила она свою молодость в Париже. А на стр. 80 утверждается, что на ее совести — «загубленные оперы Шуберта»! Известно, что Шуберт на сюжет Чези написал только «Розамунду», да и та является не оперой, а музыкой к пьесе.
Есть, однако, у книжки Кенигсберг о Вебере одно неоспоримое преимущество перед книжкой о Вагнере. Здесь более веско ведется разговор о музыке, ярко характеризуются не только отдельные эпизоды из опер, но и такие произведения, как «Приглашение к танцу», «Концертштюк», причем в ряде случаев сказанное подтверждается музыкальными примерами.
* * *
Б. Левик
Удачная попытка
Тема воплощения в музыкальном искусстве литературно-поэтических образов, возникших в народном творчестве и в профессиональной литературе разных стран и эпох, всегда вызывала и ныне вызывает живейший интерес. Эта тема нашла отражение в ряде работ, посвященных опере и программности в инструментальных (особенно симфонических) жанрах. Известны и специальные работы, где рассматриваются вопросы претворения в музыке шекспировских тем и образов1. Работа Ступеля — еще одна и весьма удачная попытка осветить упомянутую выше большую и сложную эстетическую проблему. Автор намеренно ограничил себя, выбрав из всей огромной массы художественных явлений четыре образа: два из них — Прометей и Орфей — принадлежат античности, другие два — Фауст и Дон Жуан — рождены культурой Ренессанса. Известно, какую роль сыграли эти «вечные странники» (так удачно, по-моему, они названы в книге) в литературе, театре и музыке многих веков и даже тысячелетий (если говорить об образах античной Греции).
Каждая глава книги посвящена истории воплощения в литературе и музыке одного из четырех избранных им героев. При этом специальное историко-эстетическое исследование обнаруживает значительную эрудицию и осведомленность Ступеля не только в области музыкальной, но и литературной. Так, он дает, хотя и краткий, но достаточный для
_________
1 Кстати, сейчас все чаще употребляют прежнее название оперы «Волшебный стрелок», и это выглядит гораздо убедительнее.
А. Ступель. Образы мировой поэзии в музыке. М. — Л., «Музыка», 1965, 150 стр., тираж 5500 экз.
1 Сборник статей «Шекспир и музыка». Л., «Музыка», 1964; И. Соллертинский. «Шекспир и мировая музыка». Музыкально-исторические этюды. Л., Музгиз, 1956.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Великое столетие 5
- Наш дорогой учитель 14
- Большой ученый 25
- Субъективные заметки 29
- Радость бытия 37
- О прошлом и настоящем 42
- Творец «Интернационала» 51
- Годовщина 18 марта 1871 года 59
- Реставрировать или творить? 60
- Радости и заботы 69
- Трудолюбивый коллектив 74
- Романтика наших дней 81
- Развивать камерное пение 83
- Талантливая певица 88
- Говорят члены жюри 90
- Говорят члены жюри 95
- Говорят члены жюри 97
- Говорят члены жюри 98
- На иркутской премьере 101
- Современник Дебюсси 107
- Из воспоминаний 115
- «Парад» Сати 116
- Первое прикосновение 120
- Полмиллиона друзей 129
- На родине Гайдна и Моцарта 133
- Они будят мысль 139
- Юным читателям 140
- Удачная попытка 142
- Зарубежная литература о гармонии 143
- Песни и романсы русских поэтов 149
- К 100-летию Московской консерватории 150
- Новое в новом сезоне 151
- 250 вводов 154
- В год юбилея 155
- К 70-летию А. Г. Новикова 155
- Его стихия — симфонизм 156
- По большому счету 156
- Замечательный педагог 157
- Из записной книжки композитора 157
- Форум эстонских музыкантов 158
- Эстония — РСФСР 159
- Нам сообщают из Армении 159
- Песни над Антарктикой 160
- Дружбе крепнуть! 160
- Молодость балета 162
- Новые фильмы 162
- Основная сила — молодежь 163
- Письма в редакцию 164
- В мастерской художника 164
- Памяти ушедших. Г. Г. Галынин 165
- Памяти ушедших. С. П. Преображенская 165



