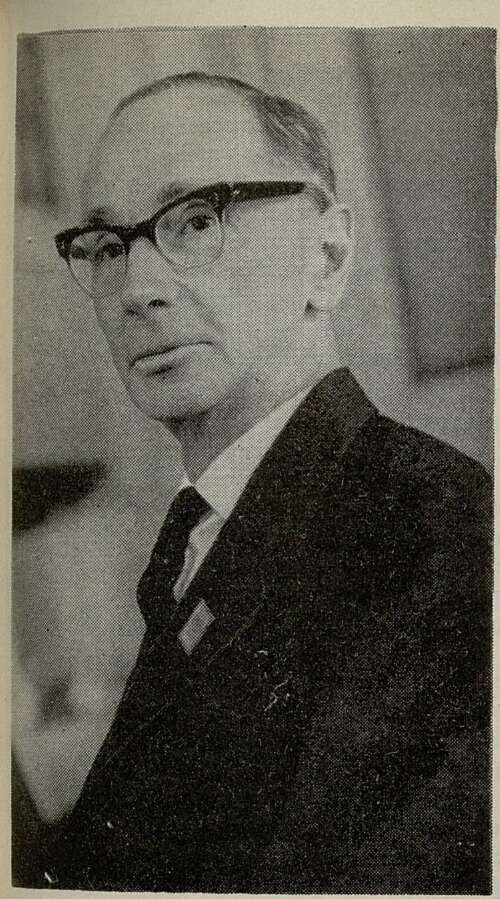
Казимир Вилкомирский (Польша)
Мне кажется, что Третий международный конкурс виолончелистов им. П. И. Чайковского принял характер соревнования между советскими и американскими музыкантами, которые на этот раз опередили всех других.
Я об этом скажу далее. Сейчас о другом.
Не слишком ли часто специалисты, говорящие о конкурсе, придают чрезмерное значение распределению по вертикали участников соревнования в итоговом списке (выше — ниже)? На мой взгляд, это упрощение, вульгаризация проблемы. Количественные расчеты приемлемы только в спорте. В искусстве существуют другие категории, куда более сложные и важные. Часто только случай решает соотношение баллов. Существуют «равновеликие типы» исполнителей, и именно их сравнение интереснее и полезнее, нежели сопоставление цифр. Поэтому поделил бы всех участников конкурса на три группы, исключив явно слабых.
Первая группа — это те, для кого игра на инструменте представляет в основном борьбу с техническими трудностями. Прекрасное в музыке до них еще не дошло. Преодоление «материального» проявляется во всем: и в звуке, и во внешнем их виде. Надо сыграть ноты — они «натуживаются». Вышло — слава богу. Но это не увлекает. Возникает вопрос: зачем играть, если это, видимо, не доставляет удовольствия даже исполнителю?
Вторая группа — это художники. Музицирование для них процесс творческий. Они целиком во власти музыки. Играя, они перестают быть девочками и мальчиками, становятся жрецами, загораются, сами восхищаются исполняемым. Для наиболее яркого «представления» музыки используется предельно широкий объем технических средств. Динамическая шкала становится огромной. Применяются самые сильные контрасты, полярные градации динамики. Это имеет огромную силу воздействия. Исполняемая музыка находится как бы в «континентальном» эмоциональном климате.
К третьей группе принадлежат тоже влюбленные в музыку. Но их любовь более светлая, спокойная, радостная. Они применяют технические средства очень рационально. У них всегда ощущаются хороший вкус и высокая исполнительская культура.
Итак, три типа музыкантов. Но в жизни все это не так отграничено. Характерные качества порой смешиваются и редко выступают в чистом виде. Думаю, советская школа виолончелистов дает исполнителей второго типа. Русские художники всегда были артистами сильных переживаний. Это в их натуре. А сейчас еще надо прибавить несомненное влияние личности такого художника, каким является М. Ростропович. Все его качества исполнителя выходят за рамки обычных оценок. Например, медленные темпы. Он может исполнять музыку на таком дыхании, какого не хватит у другого виолончелиста. Он делает все, чтобы «подтягивать» своих учеников к огромным задачам. И молодежь, двигаясь к ним, постигая их, постепенно «раскрывается». Некоторые конкурсанты могут со временем овладеть в той или иной мере вершинами исполнительства, на которых «парит» Ростропович. Но пока они еще птенцы. Благие увлечения и намерения наставника еще не могут быть ими воплощены. Подражание такому мастеру ведет к преувеличениям, к диспропорции, к насилию над инструментом. На виолончели нельзя «царапать». А ведь именно такое впечатление оставляла порой игра одной из учениц Ростроповича. В качестве противоположного примера — примера гармонии того, «что можешь», с тем, «что делаешь», — могу привести виолончелистку Э. Тестелец. Она не стремится «перескочить через себя».
Некоторые конкурсанты (я отнес бы их к третьей группе) своим исполнением как бы говорят: «Сколько прекрасного можно достигнуть без эффекта». Кстати, само слово «эффект» раньше имело не-
гативное значение. Это неверно. Если эффект целесообразен и достигает цели, он необходим. Но не надо им злоупотреблять. Хороший актер говорит и тихо и громко — в зависимости от мысли, настроения, состояния своего героя. Он не может половину спектакля прокричать, а другую половину прошептать. Постоянная смена интонации, разное звучание голоса также говорят о мастерстве и таланте, как и прочие атрибуты актерской техники. Должен сказать в связи с этим, что на конкурсных прослушиваниях нередко недоставало нормального, качественного виолончельного звука. Вместо того чтобы быть в центре внимания исполнителей, он оказывался где-то на «задворках». Великолепный «виолончельный» голос инструмента заменяли утонченными нюансами.
Вначале я сказал о том, что прошедший конкурс превратился в соревнование двух школ — советской и американской. Естественно будет посвятить несколько слов Г. Пятигорскому: он был членом жюри, среди конкурсантов выступило несколько его учеников. Как художник, Пятигорский — явление единственное в своем роде. Ему нельзя подражать, это очень сложный художник. У него изумительная красота звука и исключительное изящество техники. Своеобразная личность Пятигорского служит увлекательным примером для учеников. Овладев его интересным и благородным стилем, они все же не повторяют своего учителя. Пятигорский постепенно становится патриархом американских музыкантов, заметно начинает жить больше своими учениками, нежели собственной артистической карьерой. Они — его будущее.
Однако у американских виолончелистов мне не все понравилось. Например, игра С. Кейтса. Силовые приемы негодны на виолончели, артист должен говорить звуком. Усилие, «остервенение», расчет на «внешнюю выразительность» не нужны.
В связи с этим хочу обратить внимание на такой факт. Чрезвычайно мало в настоящее время виолончелистов, которые бы в момент игры являли собой эстетическое зрелище. Возможно, виной тому очень длинная ножка, не позволяющая красиво держать инструмент. Но помимо этого, молодые исполнители ужасно гримасничают, раскачиваются (такое поведение на эстраде становится эпидемией). У многих появились, я бы сказал, «неконтролируемые рефлексы» (например, непроизвольные движения головой во время акцентов у М. Чайковской). Это не поза и не актерство (исполнителю не до того), это недостаток самоконтроля и координации. Все технические трудности можно преодолеть и при нормальном положении корпуса. Игра на смычковом инструменте безусловно требует немало физических сил, но не столько, сколько необходимо для того, чтобы передвинуть шкаф. Зачем так «сердиться»? Я не считаю, например, что концерт Д. Шостаковича следует исполнять «с ножом в зубах».
Возвращаясь к сопоставлению двух основных соревновавшихся на конкурсе школ, я охарактеризовал бы устремленность их вдохновителей так: Пятигорский стремится к тому, чтобы исполняемое произведение имело строгую архитектонику во времени (пропорцию, гармонию частей), соотношение ритмов, темпов. Ростропович организовывает энергию исполнения. Поэтому для него характерна сила, напор, обобщенный динамизм.
Необходимо ли такое грандиозное «сооружение», как международный конкурс, лишь для того, чтобы найти «иголку в стоге сена»? Нет, значение конкурса не только в этом. Мы, музыканты со всего света, встречаемся, беседуем, обмениваемся мнениям. Перед нами проходит и хорошее и плохое, и лучшее и худшее; все это очень обогащает опытом вся нас, педагогов, служит поднятию уровня мировой педагогической мысли. При этом подчас выявляются яркие таланты. Нашлись они и теперь. Например, советские исполнительницы: Каринэ Георгиан — подлинный художник с большим будущим и Тамара Габарашвили. Или очень интересный японец Кен-Итиро Ясуда. У него процесс переживания исполняемого очень искренен. Он поэт звуков. Корделия Викарски из ГДР представляет иной исполнительский стиль, не похожий ни на кого, но очень благородный. У нее большая исполнительская культура. Очень хороша канадка Гизела Депкат. У нее отличное чувство меры, но молодая артистка «не дотянула» в технике.
Несколько слов о музыке, звучавшей в дни конкурса. Объем конкурсного времени ограничен, а произведений самых различных современных композиторов — масса. Предыдущий конкурс не был на высоте в смысле широты охвата музыкальных явлений. Но и сейчас в самих программах нет гармоничной стройности. Что важнее: оценить ли исполнителя в разных стилях, выдвинуть на первый план творчество какой-то одной страны, поощрить музыкантов к исполнению отечественных авторов? Эти вопросы еще ждут ответов. Возможно, и на этот раз программы оказались перегруженными. Что делать? В музыке XX века ведь столько стилей и даже эпох! Отмечу еще, что много раз после успешного исполнения тем или иным виолончелистом произведений современных композиторов не «звучали», становились «камнем преткновения» классические шедевры Бетховена и Брамса.
И в заключение о слушателях. Говорят, реакция публики точна, как барометр. Я с этим не согласен. Иные аплодисменты значат куда меньше, чем тишина, говорящая о глубоком переживании.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Великое столетие 5
- Наш дорогой учитель 14
- Большой ученый 25
- Субъективные заметки 29
- Радость бытия 37
- О прошлом и настоящем 42
- Творец «Интернационала» 51
- Годовщина 18 марта 1871 года 59
- Реставрировать или творить? 60
- Радости и заботы 69
- Трудолюбивый коллектив 74
- Романтика наших дней 81
- Развивать камерное пение 83
- Талантливая певица 88
- Говорят члены жюри 90
- Говорят члены жюри 95
- Говорят члены жюри 97
- Говорят члены жюри 98
- На иркутской премьере 101
- Современник Дебюсси 107
- Из воспоминаний 115
- «Парад» Сати 116
- Первое прикосновение 120
- Полмиллиона друзей 129
- На родине Гайдна и Моцарта 133
- Они будят мысль 139
- Юным читателям 140
- Удачная попытка 142
- Зарубежная литература о гармонии 143
- Песни и романсы русских поэтов 149
- К 100-летию Московской консерватории 150
- Новое в новом сезоне 151
- 250 вводов 154
- В год юбилея 155
- К 70-летию А. Г. Новикова 155
- Его стихия — симфонизм 156
- По большому счету 156
- Замечательный педагог 157
- Из записной книжки композитора 157
- Форум эстонских музыкантов 158
- Эстония — РСФСР 159
- Нам сообщают из Армении 159
- Песни над Антарктикой 160
- Дружбе крепнуть! 160
- Молодость балета 162
- Новые фильмы 162
- Основная сила — молодежь 163
- Письма в редакцию 164
- В мастерской художника 164
- Памяти ушедших. Г. Г. Галынин 165
- Памяти ушедших. С. П. Преображенская 165



