ски издевательским характером привели нас в веселое настроение. Нужно добавить, что в том возрасте оба мы, и Кабалевский и я, были очень смешливы. И стоило нам взглянуть на почтенного бородатого старца (по виду — одного из ученых ГАХНовских академиков), сидевшего в первом ряду, на его сугубо глубокомысленное выражение лица, которое так контрастировало с той «легкомысленной» музыкой, которую мы исполняли, как мы развеселились еще больше, начали фыркать и, наконец, на третьей пьесе громогласно рассмеялись, едва сумев доиграть ее до конца. В чопорной обстановке академии это произвело впечатление почти что скандала. В. Держановский, по просьбе которого мы выступали с пьесами Стравинского, был возмущен нашим поведением и в антракте устроил нам основательную проборку. Присутствовавший при этом Николай Яковлевич слегка посмеивался себе в бороду, а затем решительно обратился к Держановскому: «Ну, полно вам, Владимир Владимирович, будь я на их месте, я бы тоже рассмеялся. Разве можно эту музыку принимать всерьез. Ее без смеха не то что исполнять, но и слушать невозможно».
Вспоминаю вечера в доме у Держановских. Здесь каждое — без исключения — воскресенье (кроме летнего времени) собирались композиторы. Постоянным и неукоснительным посетителем этих «воскресников» был Николай Яковлевич. Также неизменно посещали эти вечера А. Шеншин, Д. Мелких, Л. Половинкин. Часто бывали там Ан. Александров, Фейнберг, В. Шебалин, В. Беляев. Когда из Ленинграда приезжал Б. Асафьев, он непременно также появлялся в воскресенье у Держановских. Когда приехал из-за границы С. Прокофьев, то, разуется, и он был здесь желанным гостем. Я не помню, чтоб на этих вечерах играли в четыре руки (как это бывало у Ламмов), но музыка всегда звучала. Традицией было исполнение авторами своих новых произведений. Как только появлялись новые фортепианные произведения у Фейнберга, Александрова, они всегда исполняли их у Держановских. То же самое можно сказать и про Половинкина, Шебалина, Мосолова, а позднее — про Кабалевского и меня. В 1927 году Прокофьев в свой приезд играл у Держановских отрывки из «Огненного ангела», рассказывая, что на материале этой оперы делает симфонию.
Меня и Кабалевского в дом Держановских ввел Мясковский. Нужно сказать, что он здесь был какой-то совсем другой, чем мы его знали на занятиях или концертах. Куда-то исчезала его обычная молчаливость и сосредоточенность. Николай Яковлевич много шутил, смеялся и даже состязался в остроумии с таким острословом, каким был Половинкин. Вообще обстановка на вечерах у Держановских была в высшей степени непринужденной, простой, дружеской. За музыкальными исполнениями всегда следовало чаепитие, во время которого постоянно велись разговоры о последних концертах, новых произведениях, новых событиях в музыкальной жизни. У меня создавалось впечатление, что Мясковский здесь, что называется, отдыхал душой, а сам он бывал духовным центром этих собраний.
Огромным событием в музыкальной жизни страны был первый приезд Прокофьева в 1927 году. Вспоминается, как восторженно был он встречен любителями музыки в Москве, с каким огромным успехом проходили его концерты в Большом зале консерватории, где он выступал и как пианист, и как дирижер. Хотя мы были знакомы с музыкой Прокофьева и раньше, но в живом авторском исполнении она произвела на нас ошеломляющее впечатление. Своими восторгами мы с Кабалевским поделились с Николаем Яковлевичем. Нет нужды говорить, что он их полностью разделял, разве только не проявлял их столь бурно, как мы. «Надеюсь, что приезд Сергея Сергеевича не пройдет для вас бесследно, — сказал он и, смеясь, добавил: — Ну что ж, историки, вероятно, будут впоследствии делить ваше творчество на два периода — до знакомства с Прокофьевым и после этого».
В конце пребывания Прокофьева в Москве в его честь в Доме ученых был устроен банкет, на котором присутствовали виднейшие музыканты Москвы. В числе нескольких молодых композиторов был приглашен и я. Николай Яковлевич был в этот вечер молчалив и задумчив. Мне кажется, что ему стало грустно перед новой разлукой с Прокофьевым, с которым его связывала многолетняя искренняя дружба, с которым он до этого не виделся свыше десяти лет. Быть может, я ошибаюсь, но мне думается, что именно дружеские встречи с Мясковским в Москве в 1927 году во многом способствовали скорейшему возвращению Прокофьева в СССР на постоянное жительство.
Весной 1929 года состоялся мой авторский афишный концерт в Малом зале консерватории, организованный АСМом. В составлении его программы Николай Яковлевич принимал непосредственное участие. Среди исполнявшихся произведений была моя Соната для фортепиано соч. 13, которую я тогда называл «Alla barbara».
Это произведение я уже неоднократно исполнял в разных аудиториях — в ГАХНе, в Доме ученых, на «воскресниках» у Держановских.
Концерт состоялся в пятницу 22 марта. После окончания Николай Яковлевич зашел в артистическую и поздравил меня, просил завтра обязательно
зайти к нему, захватив с собой ноты сонаты. Встретившись со мной в субботу, Николай Яковлевич сказал, что при слушании этого произведения с эстрады он убедился в существенных изъянах в разработке. И, вопреки своим обычаям, он подсел к роялю, сделал некоторые конкретные предложения. Так как я уже «привык» к тому, что я написал и многократно исполнял, то я не смог сразу внутренне согласиться с Николаем Яковлевичем. Дома я убедился в совершенной справедливости указаний Мясковского. Однако у меня ничего хорошего не получалось, и ни за субботу вечером, ни за воскресенье я ничего не смог сделать. Утром в понедельник я вдруг очень легко и быстро не только переделал, а просто заново сочинил всю разработку. Во вторник я пошел на урок к Николаю Яковлевичу, он остался вполне удовлетворен моей работой. Через два дня в четверг моя соната стояла в программе очередного студенческого концерта. Я сказал Николаю Яковлевичу, что хочу сыграть ее в новой редакции.
— Вот этого я вам не советую делать, — сказал Николай Яковлевич, — вы уже привыкли играть ее по-старому, не стоит рисковать на эстраде.
— Ну что вы, — самоуверенно ответил я, — ведь это же не чужую музыку мне надо выучить за день, а свою собственную, и поскольку я ее только что сочинил, я ее и помню хорошо.
— Вот именно, что только что, а надо еще выграться в нее.
— Ничего, все будет в порядке, — с той же самоуверенностью продолжал я.
— Ну, глядите, — еще раз предупредил Николай Яковлевич.
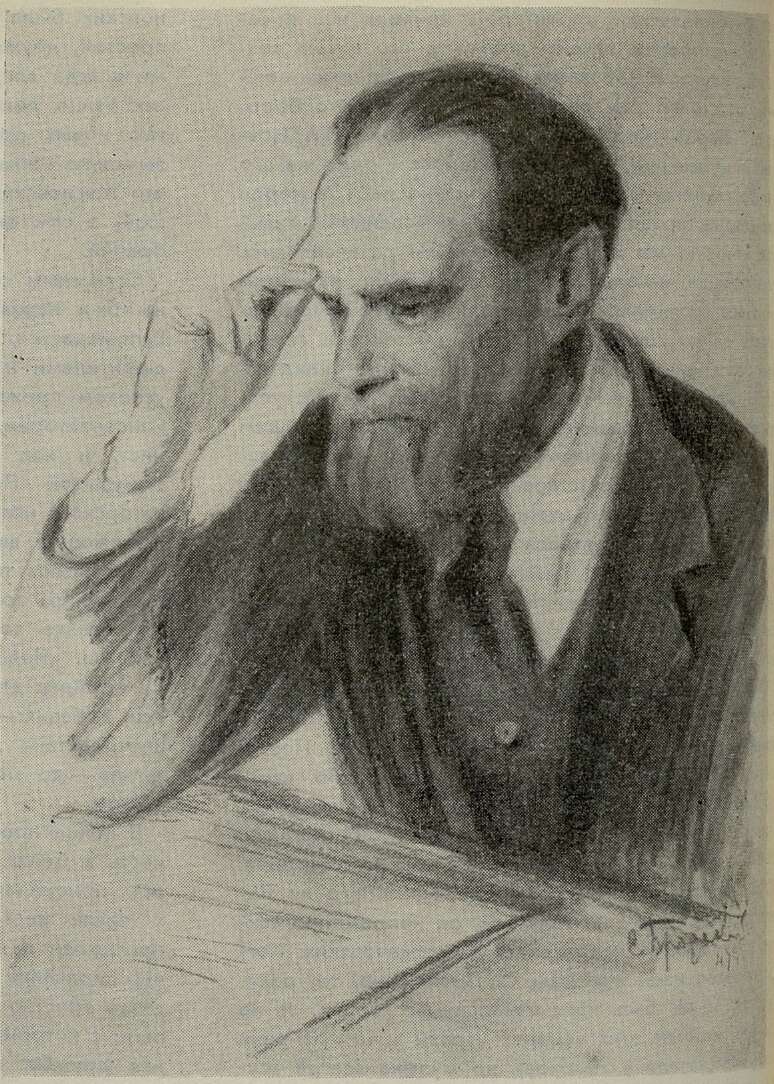
Рисунок С. Бродского
О, как я потом раскаивался, что не послушал доброго совета своего учителя. На концерте я запутался совершенно, несколько раз начинал с самого начала, но, как только доходил до разработки, сбивался и затем, скомкав, кое-как закончил сонату, со злости громко хлопнув крышкой рояля. Урок этот я запомнил на всю жизнь и всегда удивлялся, что этот важный, необходимый практический совет мне дал человек, никогда сам не выступавший на эстраде.
Весной 1929 года вместе с Кабалевским в один и тот же день мы окончили консерваторию по классу композиции, причем весь выпуск составляли только мы двое. Вечером мы были у Николая Яковлевича, и добрейшая Валентина Яковлевна опять угощала нас чаем с бутербродами.
Здесь, пожалуй, уместно будет сказать о чертах человеческого облика Николая Яковлевича, кото-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Великое столетие 5
- Наш дорогой учитель 14
- Большой ученый 25
- Субъективные заметки 29
- Радость бытия 37
- О прошлом и настоящем 42
- Творец «Интернационала» 51
- Годовщина 18 марта 1871 года 59
- Реставрировать или творить? 60
- Радости и заботы 69
- Трудолюбивый коллектив 74
- Романтика наших дней 81
- Развивать камерное пение 83
- Талантливая певица 88
- Говорят члены жюри 90
- Говорят члены жюри 95
- Говорят члены жюри 97
- Говорят члены жюри 98
- На иркутской премьере 101
- Современник Дебюсси 107
- Из воспоминаний 115
- «Парад» Сати 116
- Первое прикосновение 120
- Полмиллиона друзей 129
- На родине Гайдна и Моцарта 133
- Они будят мысль 139
- Юным читателям 140
- Удачная попытка 142
- Зарубежная литература о гармонии 143
- Песни и романсы русских поэтов 149
- К 100-летию Московской консерватории 150
- Новое в новом сезоне 151
- 250 вводов 154
- В год юбилея 155
- К 70-летию А. Г. Новикова 155
- Его стихия — симфонизм 156
- По большому счету 156
- Замечательный педагог 157
- Из записной книжки композитора 157
- Форум эстонских музыкантов 158
- Эстония — РСФСР 159
- Нам сообщают из Армении 159
- Песни над Антарктикой 160
- Дружбе крепнуть! 160
- Молодость балета 162
- Новые фильмы 162
- Основная сила — молодежь 163
- Письма в редакцию 164
- В мастерской художника 164
- Памяти ушедших. Г. Г. Галынин 165
- Памяти ушедших. С. П. Преображенская 165



