Унисоны интонационно чисты, даже в самых «рискованных» высоких регистрах.
Несмотря на свою сравнительную производственную молодость, первые пульты альтов (И. Малкин и А. Чернышев) и виолончелей (А. Никитин и Б. Морозов) производят самое лучшее впечатление, особенно последний из них — участник Квартета им. Танеева. Очень солидна группа контрабасов (играющая немецким смычком) во главе с известным педагогом М. Курбатовым.
При всем этом мы ни разу не услышали у струнной группы очень широкой и полнозвучной кантилены в forte и хорошо звучащего pianissimo. Трудно сказать, чем это вызвано: особенностями ленинградской струнной школы или принципами, идущими от вкусов и убеждений Мравинского. Показательно в этом отношении исполнение струнными побочной партии первой части и D-dur’ной части финала Шестой симфонии Чайковского, а также средней части «Франчески да Римини». В данном случае речь, понятно, идет не о «широкой» вибрации и «жирном» унисоне. Но выдающийся коллектив, подобный ленинградскому, должен иметь в своем арсенале и такую звучность.
Деревянная духовая группа играет стройно, очень выравненно в аккордовых последованиях. Красивый звук и выразительная игра у первого флейтиста Д. Беда. Кристально чисто, без обычных призвуков играет на пикколо Ф. Аронсон. Отличный солист — гобоист К. Никончук. Хотя его французский гобой подчас звучит слишком широко, напоминая густое звучание гобоев немецкой системы (solo из финала симфонии Салманова), от которых мы уже успели отвыкнуть. В. Красавин — очень опытный кларнетист, но не всегда ровный. Так, например, очень понравилось его solo в первой части Шестой симфонии Чайковского (наконец-то ре-мажорная тема в рр перед разработкой первой части идеально строила), зато знаменитое solo во «Франческе да Римини» нас удовлетворило меньше. Дело, видимо, в том, что москвичам очень непривычна ленинградская манера чрезмерной вибрации на кларнете, особенно в р и pp. Правда, у покойного Генслера звук также вибрировал. Но за исключительно «опертую» (используя вокальный термин) кантиленность и поразительную музыкальность ему все прощалось... Solo из «Франчески» было его «коньком». Оно вспоминается всегда, и сравнение с ним не в пользу Красавина.
Знаменитая ленинградская фаготовая школа А. Васильева жива доныне и имеет в лице Г. Еремкина достойного представителя. Выразительные кантилена и фразировка, блестящая техника и умение находить свое место в ансамбле — все это налицо. Особенно приятно было исполнение solo в начале второй части симфонии Салманова. Следует упомянуть и группу регуляторов. Наиболее сильны среди них молодые — фаготист О. Талыпин и гобоист В. Караулов. Оба отлично показали себя, в частности, в Шестой симфонии Чайковского.
Группу валторн возглавляет представитель блестящей династии валторнистов — В. Буяновский. Его красивая игра без московских «вибратных излишеств» всегда стабильна, он отлично ведет свою группу, очень ровную и стройную.
Трубно-тромбоновая часть оркестра, пожалуй, наиболее уязвимая в этом замечательном коллективе. «Концертмейстер» этой группы — солист В. Марголин, весьма одаренный трубач, однако иногда злоупотребляющий «запасом мощности», которая выпирает из ансамбля. Возможно, что благодаря этому иногда наблюдается неравновесие в звучании всей группы. Регулятор, солист Ю. Большианов, значительно уступает Марголину в силе и красоте звучания. В ряде случаев верхний голос в хоре медных звучит у него недостаточно ярко, особенно в ff. Так было в экспозиции главной партии в Шестой симфонии Чайковского (буква С un росо animato), в первых аккордах формальной репризы (буква N) и других подобных случаях. В ансамбле без Марголина тромбоны в высоких регистрах выделяются. Тромбоновая группа особенно в низких регистрах и в ff понравилась меньше. Зато в р и рр трубы с тромбонами звучат замечательно: мягко, едино, выравненно, с красивой разнообразной атакой в аккордовых последованиях и во всех регистрах.
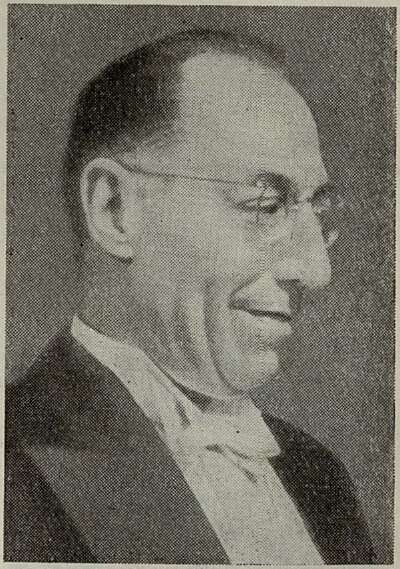
К. Элиасберг
Молодой литаврист А. Иванов производит самое хорошее впечатление. Он ритмичен, играет красиво, у него хороший строй (если не считать досадного ля в конце симфонии Салманова). Ударная группа, видимо, не приспособилась к новой для себя акустике и играет чрезмерно громко (например, малый барабан в Пятой симфонии Шостаковича). Превосходную арфистку Е. Синицыну москвичи хорошо знают. Она одна из немногих оставшихся в оркестре ветеранов.
Замечательный оркестр! Идеально выравнен, если не считать небольшого просчета в медной группе. (Вполне можно допустить, что и это — лишь следствие новой для коллектива акустической среды.) Играет как великолепно налаженный механизм. И все же, слушая его, трудно отрешиться от некоторой двойственности: все время то восхищаешься мастерством, то досадуешь на холодок, которым веет с эстрады в известных широкому слушателю произведениях, в которых так привычно ощущать человеческое тепло и страсти.
Не здесь ли кроется причина некоторой негибкости оркестра, когда за пультом стоит дирижер, далекий по своим эстетическим концепциям Мравинскому? Не секрет ведь, что не всегда удавалось «сломить сопротивление» и повести за собой музыкантов этого коллектива. Известно, что оркестр, имеющий великолепные репетиционные условия, необычайно плодотворно и рационально работает, чему во многом помогает и железная дисциплина, выкованная годами. При таком подходе вырабатывается свое специфическое отношение к требованиям, предъявляемым каждому отдельному арти-
сту оркестра. Нет особенной надобности в гибкости и технике воспроизведения различных исполнительских манер дирижеров, которые даются большим стажем и опытом игры с дирижерами различных творческих индивидуальностей.
Закончились гастроли. С чувством глубокой благодарности расстаемся мы с замечательным коллективом, неотделимой частью ленинградской музыкальной культуры.
У ленинградцев есть чему поучиться и всем филармониям и симфоническим коллективам нашей страны.
И. Константинов
Пропагандисты камерного пения
Какой инструмент может совершеннее человеческого голоса передать радость или страдание, тончайшую мысль или призыв к действию? И разве пение не самый лучший путь для приобщения слушателя к вершинам музыкального искусства?
Вот почему искренней благодарности заслуживают последние работы ленинградских певцов, которые в дни декады сумели привлечь внимание к камерному вокальному творчеству своих земляков — советских композиторов — и дать интересную интерпретацию шедевров русской классической музыки.
Пожалуй, наиболее сильное впечатление произвело на слушателей исполнение певицей Н. Юреневой «Русской тетради» молодого композитора В. Гаврилина. Этот вокальный цикл, написанный на народные стихи, потрясает глубиной постижения русского характера, замечательным синтезом подлинно народного и подлинно современного в музыкальном языке. Юренева поет цикл не только виртуозно, мастерски владея красками в самых различных регистрах. Она с огромной силой выразительности передает мечту русской женщины о любви, ее непростую судьбу, ее своеобразный характер. Й потому веришь резкой смене настроений, смеху и слезам, причитанию и озорной частушке. Юренева показывает богатую щедрую натуру своей героини, которой в равной степени доступны и стихийный взлет чувства и трезвое осознание своей неудачливой судьбы. Исполнение «Русской тетради» — большая победа талантливой певицы, которая уже успела покорить москвичей блестящим исполнением оперы А. Пуленка «Человеческий голос» в один из своих предыдущих приездов в столицу. Успех певицы по праву разделяет ее партнерша пианистка Т. Салтыкова, подлинный мастер музыкального ансамбля. Кстати, заметим, что развитие камерно-вокального исполнительства сдерживает некоторое охлаждение к нему сегодня наших выдающихся пианистов и композиторов.
Не говоря уже о вошедших в историю ансамблях Глинки с О. Петровым и Воробьевой, Мусоргского с Леоновой, Даргомыжского с Кармалиной, Римского-Корсакова с Забеллой-Врубель, Рахманинова с Шаляпиным и Кошиц, в нашей памяти живут такие дуэты, как Духовская и Бихтер, Нежданова и Голованов, Козловский и Игумнов, Кругликова и Гольденвейзер, Суховицына и Гинзбург, Дорлиак и Рихтер и, наконец, Вишневская и Ростропович. Подобные содружества приобретают особенное значение в современном репертуаре, где партии голоса и фортепиано по меньшей мере равноценны.

Н. Юренева
«Русская тетрадь» исполнялась в смешанном камерном концерте среди инструментальных номеров. Здесь же прозвучали два других вокальных цикла: А. Чернова на стихи Жака Превера и В. Чистякова «Песни мужества» на стихи Назыма Хикмета.
Цикл Чернова исполнил молодой певец Э. Хиль. За короткое время он завоевал широкую аудиторию как талантливый эстрадный певец. Хороший вкус и благородная сдержанность отличали его интерпретацию и в этом случае. Однако, на наш взгляд, сочинение Чернова неравноценно. Весьма спорна идея в коротком, состоящем из шести номеров цикле представить различные жанры творчества. Вот почему к примеру соседство подчеркнуто интимных «Трех спичек» с проникнутой социальным протестом «Весной» оказалось неубедительным. И тут артист не смог «выручить» композитора. Лучше всего удался и певцу и композитору романс «Красная лошадь улыбки твоей».
С «Песнями мужества» москвичи давно знакомы по исполнению А. Беседина. Молодой певец, настойчиво ищущий собственных творческих путей в интерпретации новых сочинений советских композиторов, с большим подъемом воплотил образ революционера, вожака масс, который живет и умирает с гордо поднятой головой. Пианистка Г. Максимова в равной степени способствовала созданию убедительного исполнительского рисунка. Попутно скажем, что близкая тема нашла интересное воплощение в романсах М. Пустыльника на стихи Мусы Джалиля. Здесь образ патриота-бойца трактуется не столь эпически, как в цикле Чистякова. Композитору ближе лирический монолог, порой не чуждый даже некоторого налета мелодраматизма. А. Почиковский проникся духом поэзии Джалиля. Взволнованно и ярко спел он под чуткий аккомпанемент И. Головневой романсы «Сон в тюрьме», «Горная река» и «Не верь» .
Из услышанных в смешанных камерных концертах вокальных произведений хочется выделить самобытные романсы на стихи Есенина В. Веселова. Композитору близки есенинская лирическая грусть и поэтическое «видение» русского пейзажа. Он не пытается передать размах и молодецкую удаль, которая звучит порой в стихах поэта. Московская певица Н. Исакова в сопровождении пианистки Е. Брук пела очень просто
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- У стены коммунаров 5
- На уровень задач XXIII съезда КПСС 7
- Баллада о товарище 11
- Певец, артист, художник 14
- Молодежь ищет, сомневается, находит 19
- Ритм и форма 28
- Облик благородного человека 34
- Большой театр — сегодня 38
- Новые пути 42
- И вновь о праве на поиск 48
- Хорошее единство 53
- Встреча с музыкой 57
- Радости и разочарования 59
- Наш Муса 63
- От студии к театру 67
- Народная песня и культура певца 71
- Впечатления и предложения 73
- Три из шести 75
- О песнях Дебюсси 79
- Из воспоминаний 86
- Цельное, неповторимое впечатление 98
- Пропагандисты камерного пения 104
- На литовской земле 108
- У композиторов Северного Кавказа 112
- Активнее использовать резервы 120
- Звание артиста обязывает 126
- Торжество национального гения 127
- Музыка и куклы 133
- Народная полифония 139
- Знамение времени 140
- Музыка и современность 143
- Родина смычковых инструментов 145
- Коротко о книгах 147
- Нотография 148
- Хроника 149



