ботки неприхотливой русской мелодии. Бурные темпераментные вспышки перемежаются со спокойной лирикой. В концерте встречаются красочные пейзажные зарисовки. Так, в первой части ласковая тема деревянных духовых проглядывает сквозь дымку тончайшего divisi струнных, словно пейзаж, проступающий сквозь стелющийся туман. Звучание высоких струн рояля вместе с равномерными ударами треугольника точь-в-точь капельки утренней росы. Все эти детали, соединяясь воедино, воссоздают «сибирскую атмосферу». И это естественно. Композиторы Сибири стремятся сегодня говорить со слушателем своим языком и в симфонических жанрах. Но свой язык выработать не легко. Подтверждение тому — прозвучавшая в концерте Симфония молодого автора И. Бродского. Тонкое владение оркестром, умение развивать мысль — в этом видна рука одаренного композитора-профессионала. Однако стремление говорить по-своему пока еще не привело к ощутимым результатам. Явно сказывается влияние Родиона Щедрина в первой части симфонии (здесь Бродский разрабатывает народную игровую песню «Не сама машина ходит»). А в финале заметно воздействие стиля Одиннадцатой симфонии Шостаковича. Надо надеяться, что Бродский постепенно найдет себя. И залогом тому — бесспорный талант композитора, проявляющийся во многих эпизодах симфонии.
Трудности творческого роста ощутимы в сочинениях других сибирских авторов. В фортепианном концерте того же Иванова явное злоупотребление оркестровым tutti, а в партии солиста гипертрофированное увлечение октавной техникой. Отсюда порой ощущение некоторой тяжеловесности.
Adagio Вайнштейна для скрипки с оркестром поначалу очень обнадеживающее (своеобразный лирический диалог скрипки с фаготом) затем становится несколько расплывчатым.
Отсутствие ясно выраженного драматургического плана снижает впечатление и от Увертюры Я. Кайяка, хотя в этом сочинении очень привлекает тематический материал (отчетливо чувствуется связь композитора с родным для него фольклором латышского народа).
Исполнители сделали многое, чтобы в лучшем свете показать творчество своих земляков. Второй дирижер Новосибирского оркестра В. Горелик зарекомендовал себя умным, профессионально крепким музыкантом.
Хорошо прозвучали симфония Бродского. Дирижер стремился отчетливо выявить сложные драматические противопоставления. В полифонических эпизодах симфонии — динамичных и ярких — великолепно сочетались различные голоса.
Выступает Новосибирский оркестр.
Дирижер — В. Горелик
Думается, что Adagio Вайнштейна могло бы быть с большим успехом донесено до слушателя, если бы не ощущалась вялость в развитии музыкальной ткани. Это упрек не только композитору, но и дирижеру. Кстати, в этом сочинении не всегда безупречно звучала медная группа.
Под управлением автора — Кайяка — была исполнена его увертюра. Прекрасно прозвучали в ней лирические и танцевальные фрагменты. С эпическим размахом была подана первая тема. Пожалуй, с дирижером можно не согласиться только в том, что он порой излишне акцентировал цезуры между отдельными темами (в частности, паузы). Может быть, поэтому произведение показалось чересчур растянутым.
Тесный творческий контакт, установившийся между Новосибирским симфоническим оркестром и композиторами-сибиряками дал уже хорошие плоды. И нет сомнения в том, что дружба композиторов и исполнителей принесет еще немало радости ценителям настоящего искусства.
В. Зак
*
Впервые в зимнем концертном сезоне Москвы выступил симфонический оркестр из Свердловска. Серьезно, продуманно составлены программы уральских музыкантов. Их объединяет большое достоинство: они широко, целенаправленно представили слушателям русскую музыку. Не секрет, что она начинает «теряться» в стремительно сменяющихся событиях музыкальной жизни столицы. Все реже приходит в слушательскую аудиторию простой, обаятельный Лядов, глубоко национальный Балакирев, да и многие другие отечественные композиторы.
Как же была исполнена их музыка свердловчанами? Надо признать: нашим гостям недоставало глубокого эмоционального заряда. Как-то «постно» прозвучали «Восемь русских песен». В них заложено гораздо больше сочности, задушевности, лукавства. Совсем скучным было «Волшебное озеро». А вот «Кикимора» вдруг «ожила». Эта яркая миниатюра была сыграна с таким блестящим артистизмом и вкусом, что стрелка концертного «барометра» стала заметно склоняться к успеху.
В «Симфонических танцах» можно было убедиться, что М. Паверман — действительно руководитель оркестра, отлично владеющий своим «инструментом».
В Симфонии Балакирева и «Петрушке» Стравинского (дирижер — А. Фридлендер) оркестр звучал полно, в некоторых эпизодах захватывая эмоциональностью, живостью передачи музыки. Органичными были темпы, обращала на себя внимание точная дозировка в распределении динамики звучания, хорошо прослушивалась вся оркестровая ткань, свободно доходило главное, не терялось второстепенное. Фридлендера можно упрекнуть разве что в излишней эмоциональной сдержанности, в недостаточно полном раскрытии «богатырского» размаха первой части и особенно финала симфонии Балакирева. Во второй и третьей частях симфонии хотелось бы полнее ощутить прелесть мелодического материала.
Настоящим «пробным камнем» для оркестра был монографический бетховенский Концерт (Паверман). Исполнение Третьей симфонии можно смело причислить к лучшим за последние годы. Действительно «Героическая» от начала до конца (включая и траурную вторую часть). Слушая симфонию думалось: «Оркестр имеет право играть Бетховена и играет его «по-бетховенски».
Пятый фортепианный концерт вызвал восторг зала. Игра В. Крайнева удивительно впечатляюща. Какая яркость пианизма, точность «изложения». Правильно говорится: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». (Надо отметить, что все солисты, выступавшие с оркестром — А. Каплан, Д. Паперно, А. Ведерников, — были украшением концертов гостей.)
«Леонора» № 3 прозвучала в конце программы. Как же трудна она для исполнителей! Не буду утверждать, что впечатление от концерта потускнело к концу. Нет! Увертюра была сыграна добротно. Но именно здесь, на «малом поле», оркестр «не дотянул»: вдруг почувствовалась усталость исполнителей, обнаружились технические просчеты.
В Доме композиторов (М. Паверман и молодой дирижер Н. Чунихин) исполняли симфоническую поэму Н. Пузея «Легенда-быль», Концерт для виолончели с оркестром О. Моралева, двухчастную Третью симфонию Г. Топоркова, два отрывка из опер Б. Гибалина «Товарищ Андрей» (опера посвящена жизни и деятельности Я. М. Свердлова) и Г. Белоглазова «Эхо войны». Солистами выступили профессор Свердловской консерватории Г. Цомык и артисты местного оперного театра Л. Сапыгина, Н. Голышев, И. Агафонов.
Не берусь с первого прослушивания анализировать столь разные и крупные сочинения. Отмечу только, что знакомство с ними обогащает наше представление о сегодняшнем уровне и состоянии русской советской музыкальной культуры. Свердловские композиторы, как известно, стремятся сочетать следование классическим традициям с освоением и разви-
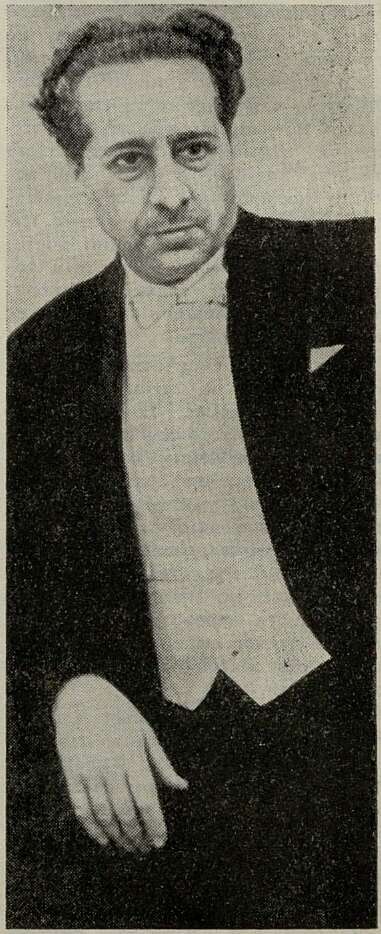
М. Паверман
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Звезда моя 5
- Новые образы, новые средства 7
- Песни для всех народов 15
- Друзьям однополчанам 19
- Возрожденная традиция 22
- Первая любовь 26
- «Зимний путь» Шуберта 30
- Улыбки Моцарта 37
- Рождение новой оперы 43
- Встречи с мастером 52
- Опыт дирижера 56
- На сцене и эстраде 58
- Прочтение «Хованщины» 65
- Учиться создавать образ 71
- Как порой учат 73
- Интервью с Тоти даль Монте 76
- Оркестры Урала и Сибири 80
- Поиски новых путей 84
- Певцы Севера 86
- «Летувы» 88
- Слушая органистов... 89
- Письма из городов: Симфонические премьеры. Камерные вечера Г. Рождественского 94
- Жанр обязывает 96
- Память о войне 105
- В Эвенкию за песнями 110
- Утверждение правды 114
- Неделя в Брненском театре 127
- У нас в гостях: Советский Союз в моем сердце 134
- Песня о всеобщей стачке 137
- Факты и выводы 139
- Теория в развитии 147
- Новые грамзаписи 149
- Хроника 151



