рактер песни. Лишь иногда он незаметно подносил руку к губам, и я понимала, что петь надо тише. Или делал едва заметное, плавное движение — и темп песни будто сам собой сдвигался. Даже не дирижируя, Голованов дышал музыкой...
Много спустя после постановки «Царской невесты» мы с концертмейстером Б. Юртайкиным готовили программу из романсов Даргомыжского и Глинки для концерта в Колонном зале. Романсы давно уже были выучены, впеты, необходимый ансамбль был достигнут, но... чего-то явно не хватало, петь было скучно, а слушать, наверное, еще скучнее.
Романсы Глинки мелодичны и быстро запоминаются, но исполнительски очень трудны. Все в них идет от текста, от дыхания жизни — каждое движение мелодии и аккомпанемента проникнуто глубоким смыслом. Но почему-то нередко именно романсы Глинки исполняют в излишне академической манере, теряя смысловой подтекст их и превращая в поразительно далекие от человеческих чувств и эмоций произведения. Вероятно, именно так пела тогда эти романсы и я, ощущая пустоту, но не зная, как и чем одухотворить музыку.
После неудачных попыток самим решить проблему исполнения этих романсов мы решили попросить Голованова помочь нам.
Надо сказать, что Николай Семенович, неповторимый исполнитель монументальных оперных полотен, музыки Вагнера и Скрябина, был блестящим знатоком и тончайшим интерпретатором романсовой литературы. Сейчас уже мало кто помнит, что Голованов и сам писал романсы (не соглашаясь, впрочем, их издавать), — на мой взгляд, очень изящные, поэтичные, чем-то близкие музыке Дебюсси, Шоссона, Дюбюка.
На нашу просьбу Николай Семенович ответил согласием. И вот снова Юртайкин у рояля, рядом с ним Голованов. Еще ни слова не сказав, он начал тотчас же размечать ноты, вписывая в них уже знакомые мне знаки и закорючки.
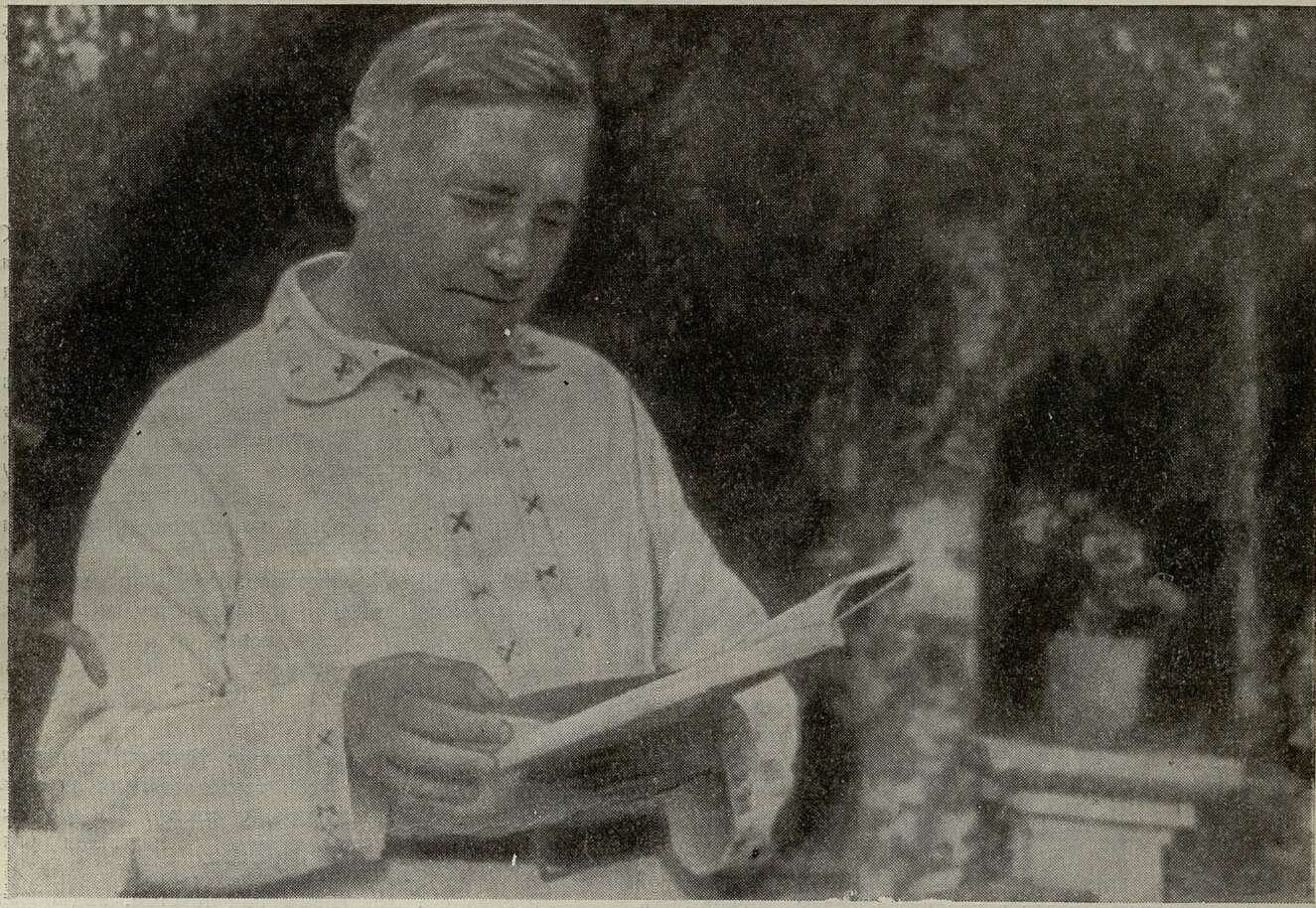
Лето 1937 года
Будто волшебной палочкой касался он романса, и музыка начинала жить, каждая нота наполнялась смыслом. Николай Семенович стремился к предельно естественному, искреннему и полному раскрытию эмоций. «Глинка очень эмоционален, и не надо бояться петь его даже экспрессивно», — говорил он мне.
«Стой, мой верный, бурный конь!» (слова Н. Кукольника) — это фантазия с огромным диапазоном эмоций, настроений, переживаний. «Стой, мой верный, бурный конь, у крыльца чужого. И земли сырой не тронь сребряной подковой», — запела я и вдруг увидела преобразившееся лицо Николая Семеновича, нервное движение его рук... Оказывается, пунктированный ритм аккомпанемента — я ощутила это — рисовал не просто топот коня, а биение сердца человека, мчавшегося к изменившей ему возлюбленной. Две четверти паузы отделяют последнюю фразу музыкального предложения («сребряной подковой») от предыдущей. Николай Семенович просил точно выдерживать ее и произносить заключительные слова легко, но в то же время волево, угрожающе. Сразу возникал характер, ощущалась дрожь нетерпения, охватившая ревнивца. То же самое происходило и во втором предложении: «Я, как тень, проникну в дом, ложе их открою, усыплю их вечным сном...» — динамика все нарастала, чтобы достичь апогея на словах: «...смертью успокою».
«Вот тогда неси меня на утес высокий. И с утеса и с себя брось в Хенил глубокий!» — молит обманутый юноша. На одном дыхании, подчеркнуто marcato просил петь эту фразу Николай Семенович. И заменял авторское р последней фразы на f. На отыгрыше пианиста оно снова угасало, чтобы в самом конце первой части вновь подняться до угрожающего f. Стремительная первая часть романса превращалась у Голованова в большой эпизод, эмоционально очень насыщенный, с точными по динамике и смыслу кульминациями.
И сразу по контрасту вторую часть Николай Семенович начинал с ррр вместо авторского р, замедляя темп. Тяжелые мутные воды катит мрачный Хенил. В моем воображении это связывалось с картиной, чем-то напоминающей «Соловецкий монастырь» М. Нестерова, с ее темными, тяжелыми волнами и одинокой черной фигурой монаха.
Sostenuto maestoso — это авторское указание подчеркнуто в моем клавире рукой Николая Семеновича. «Хенил шумит и жертвы ждет...» — такой фразой открывался эпизод. Каждое слово у Глинки разделено паузами. Но Голованов предложил заменить их цезурами, чтобы сохранить непрерывность дыхания. Я попробовала это сделать и почувствовала вдруг нечто новое в характере фразы. Может быть, и Глинка подразумевал здесь не вокальное дыхание, а естественные паузы в речи человека, буквально выдавливающего из себя каждое слово, угнетенного предчувствием трагического конца. (Не случайно в строках финала, повествующих о гибели всех трех героев, — повторится именно этот музыкальный материал.)
Над третьей частью фантазии Николай Семенович со мной почти не работал. Agitato ed appassionato. Ма dolce е grazioso assai — этим авторским указанием по существу точно определялся характер части — беспечной песенки легкомысленной пташки. Только в самом конце, в отыгрыше пианиста, Николай Семенович оставил свои пометки: от рр значительное crescendo к последним тактам и большая фермата на предпоследнем аккорде. Казалось бы, незначительные штрихи, но в сознании сразу возникала картина гибели юной девы. Драма свершилась.
И снова «тяжелые волны» открывают заключительный, четвертый эпизод. Мрачного р добивался здесь у пианиста Голованов, «раздувая» его к моменту моего вступления во внушительное crescendo, на первых же нотах которого он просил пианиста вновь уйти на pp. Я должна была вступить на зловещем, собранном р: «Сбылось!» И после напряженной паузы, будто с запозданием: «Три кедра над могилой бросают тень на три луны. Три разноцветные чалмы качает ветр уныло». Слово «уныло» Николай Семенович предложил спеть на glissando(от ми к до), и это еще более усилило ощущение тяжелой, угнетающей пустоты...
«Кругом равнина грустно спит...» — Николай Семенович снимал паузу после «кругом», и возникавшая от этого неестественная ровность вокализации помогала передать трагизм момента.
В последней фразе: «Лишь в свежий дерн могилы новой конь, андалузский конь стучит серебряной подковой» — Голованов просил выделить слово «новой», а глагол «стучит» не спеть, а сказать коротко, очень остро первый слог (одна восьмая) и чуть протянуть последний (длящийся три четверти). А затем на рр, слившись с тембром фортепиано, исчезал голос. Постепенно на тех же «тяжелых волнах» замирало и фортепиано. Но на последнем, фамажорном трезвучии в глубоком басу после рр как гонг звучало на густой педали неожиданное sf, и аккорд медленно затихал... Трагедия свершилась, страсти отшумели, и вновь властвует над всем вечная природа.
Так «прочел» этот романс Николай Семенович. Может быть, не во всем точно следовал он авторским указаниям, авторскому тексту. Но это была музыка — живая, трепещущая, освященная огнем подлинных человеческих страстей.
Работа с Головановым над текстом, над образами музыкального произведения дала мне ключ к
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Звезда моя 5
- Новые образы, новые средства 7
- Песни для всех народов 15
- Друзьям однополчанам 19
- Возрожденная традиция 22
- Первая любовь 26
- «Зимний путь» Шуберта 30
- Улыбки Моцарта 37
- Рождение новой оперы 43
- Встречи с мастером 52
- Опыт дирижера 56
- На сцене и эстраде 58
- Прочтение «Хованщины» 65
- Учиться создавать образ 71
- Как порой учат 73
- Интервью с Тоти даль Монте 76
- Оркестры Урала и Сибири 80
- Поиски новых путей 84
- Певцы Севера 86
- «Летувы» 88
- Слушая органистов... 89
- Письма из городов: Симфонические премьеры. Камерные вечера Г. Рождественского 94
- Жанр обязывает 96
- Память о войне 105
- В Эвенкию за песнями 110
- Утверждение правды 114
- Неделя в Брненском театре 127
- У нас в гостях: Советский Союз в моем сердце 134
- Песня о всеобщей стачке 137
- Факты и выводы 139
- Теория в развитии 147
- Новые грамзаписи 149
- Хроника 151



