ском концерте Академии «Моцартеума»1 в Зальцбурге выступил молодой чудак с жиденькой бородкой, который, преисполнившись великой важностью, продирижировал своим квартетом для скрипки, альта, контрабаса и уж не помню сейчас еще какого именно инструмента из группы деревянных духовых. Эта жалкая пародия на музыку вызвала веселые смешки зала (ученические концерты проходят в Академии регулярно два раза в неделю, при «открытых дверях» — каждый желающий может их посетить бесплатно). На вопрос, много ли подобных произведений создается в классах по композиции, директор Академии профессор Шольц заверил, что этот «эксперимент» является почти что исключением и поставлен в программу вечера лишь только «для дискуссии». Во всяком случае, остальные номера были посвящены Шопену, Прокофьеву и Хачатуряну; это еще раз подтвердило, что советская музыка повсеместно и прочно вошла в учебный репертуар зарубежных стран.
Чтобы быть точной, скажу, что президент Венской академии музыки и сценических искусств профессор Ганс Зиттнер, очень любезный, живой и подвижной человек, не без гордости заявил в беседе, что среди педагогов по композиции находятся представители всех направлений в музыке2 — от самых «правых» до самых «левых». Как поймут читатели из ниже приводимой статьи издательницы «Австрийского музыкального журнала» Элизабет Лафите (энтузиастически продолжающей дело своего покойного мужа, крупного музыкального деятеля), подобный объективизм присущ и австрийской художественной печати. Но и Элизабет Лафите, и многие руководители музыкальных учреждений, представители Министерства культуры и просвещения не могут, да и не хотят скрывать своего неприятия не только крайних проявлений нынешнего авангардизма, но и собственных родоначальников атонализма и додекафонии. Об этом можно судить не только по высказываниям, но и по конкретным поощрительным и пропагандистским мероприятиям — присуждениям премий композиторам, программам музыкальных фестивалей и т. п.
Однако наиболее надежной защитой австрийской музыки от влияний модернизма служат высокие вкусы самого народа, его неистребимая привязанность к подлинному искусству больших мыслей и страстей, его кровная связь с истоками национальной культуры. Это, несомненно, самое радостное и глубокое впечатление, которое дало мне знакомство с Австрией, впечатление в какой-то степени даже неожиданное, поэтому особенно сильное. И скажу почему. В ряде буржуазных стран, во Франции например, случилось самое страшное, что может грозить национальной культуре, — она оказалась изолированной от ее народных истоков. Об этом недавно писал в нашем журнале Д. Кабалевский3, которому довелось знакомить бургундских крестьян с их же родными песнями. «Джаз убил нашу народную песню», — сказал ему один французский музыкант. И хотя мы знаем, что народная песня так же бессмертна, как и сам ее творец, к сожалению, радио, эстрада пока вытеснили фольклорные формы из музыкального быта французов. Об этом говорилось и в беседах в Париже с некоторыми весьма прогрессивными музыковедами, в частности с Фредериком Робером, сыном известного публициста, члена Французской компартии Андре Вюрмсера. Робер много делает для сохранения и пропаганды французских революционных песен (он подарил мне альбом с записями в различных обработках «Марсельезы» и других песен, сопровождаемых пояснительным текстом), разыскивает и записывает произведения других жанров старой бытовой музыки, в том числе для духовых оркестров. Но о народной песне не мог сказать ничего утешительного.
Поэтому, естественно, было приятно, когда я убедилась, что в Вене и в быту и на радио прочно живет народная песня — тирольские йодли, простенькие лендлеры довольно часто звучали вокруг
_________
1 Высшее музыкально-учебное заведение с контингентом в 850 учащихся, не считая ребятишек, воспитывающихся в примыкающем к Академии Институте Орфа.
2 К сожалению, в мае этого года мне пришлось услышать выступление уважаемого профессора на диспуте, организованном в рамках Загребского бьеналле. Поскольку этот фестиваль приобрел явно авангардистскую ориентацию, то совершенно естественно, что основой диспута, его лейттемой стал вопрос: как завоевать аудиторию? Почти все участники обсуждения, включая главу «конкретников» Пьера Шеффера, с унылой безнадежностью говорили о том, что круг слушателей современной музыки (имелись в виду, конечно, авангардистские течения) продолжает оставаться чрезвычайно узким и тенденций к его расширению не наблюдается. И вот тут-то профессор Зиттнер вдруг решил внести бодрящую нотку. Он сообщил об экспериментах, проводимых с авангардистскими опусами на неподготовленной аудитории. Оказалось, что они не вызывают протеста у ребят, ранее совершенно не соприкасавшихся с музыкой, а также и у некоторых жителей Центральной Африки. Подобные вещи вполне объяснимы. Непонятно только, как они могут радовать мастера, всю свою жизнь, вплоть до седых лет, посвятившего делу воспитания профессиональных музыкантов?! Ведь эти эксперименты лишь подтверждают давно известную истину, что авангардизм, игнорируя накопленный человечеством художественный опыт, обращается вспять к первобытным истокам музыки, пытаясь воздействовать лишь на физиологическую природу людей, а не на их эстетическое чувство.
3 «Советская музыка» № 12, 1964.
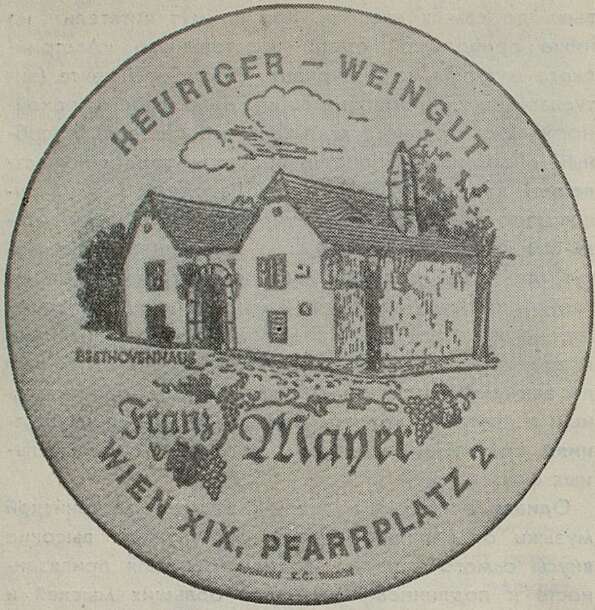
Особенно меня прельстила традиция хойригера — так называется молодое вино и те таверны или кабачки, где оно подается. Таких заведений на окраинах Вены великое множество; меня научили их быстро опознавать — по еловым ветвям, сплетенным в зеленые шары и вывешенным, словно фонари, над входными дверями. В один из вечеров, прослушав «Stabat mater» Дворжака, я с моим милым гидом по Вене Евой Майер поехала на хойригер в «Бетховенхауз». И вот мы перед домиком, где когда-то действительно жил Бетховен! Перешагнув порог, очутились в небольшом внутреннем дворе, куда выходило несколько дверей. Заслышав звуки музыки, мы наугад вошли в одну из них и очутились в небольшой комнате, переполненной людьми. Звенел смех, заливались скрипка и аккордеон; кто-то им подпевал, тут же, между непокрытыми деревянными столами, несколько пар плясали незамысловатый народный танец... Сразу же нахлынуло ощущение какой-то простоты и непринужденности, веселой искренности... Другая дверь привела нас в более просторное помещение, где за такими же деревянными столами, на деревянных скамьях сидели дружные компании и тянули вино из больших, чуть ли не пивных кружек. Нас здесь уже ждали гостеприимный и веселый доктор Мецник1 и известный скрипач и педагог Венской академии профессор Самохил с супругой. И вот в разгар оживленной беседы о музыке вдруг послышалось что-то знакомое-знакомое... К соседнему столу, скрытому от нас высокой вешалкой, подсели три музыканта, и скрипка, гитара и аккордеон запели «Подмосковные вечера», потом «Катюшу», «Вечерний звон»... Трудно передать, какую прелесть обрели родные мелодии в этой обстановке, как вдруг они сдружили наше небольшое общество. И как располагал весь этот непринужденный демократизм обстановки, без крахмальных скатертей и профессиональной учтивости официантов, без жеманно мяукающих джазовых певичек, без раздражающего грохота ударных и визга медных... Доктор Мецник оказался не только обаятельным собеседником и страстным любителем музыки, но и профессиональным скрипачом, окончившим Венскую академию, а также президентом двух симфонических коллективов — «Тонкюнстлероркестра» и Нижнеавстрийского. Это было сюрпризом.
Мне пришлось встретить в Вене и людей, не имеющих профессионального образования, но в то же время прекрасно ориентирующихся в музыке. И здесь хочется с благодарностью вспомнить прежде всего мою неразлучную спутницу по Австрии Еву Майер. Конечно, нас сдружило во многом то, что Ева почти год проучилась в Московском университете, поездила по нашей стране и чутко поняла дух нашей жизни, наших стремлений. Но ее душевная культура проявилась и в большой чуткости к музыке. Молодая сотрудница службы прессы, она оказалась страстным меломаном, постоянной посетительницей оперы, горячей поклонницей Караяна, Рихтера, Ойстраха и других выдающихся музыкантов — знала всех певцов, всех деятелей музыки. Поэтому ее помощь мне была неоценимой. Однако моим пером сейчас руководит не только чувство признательности. Знакомство с Евой, ее родителями, другими венцами позволило лучше понять музыкальную душу тех, кто ежедневно наполняет оперные театры и концертные залы Вены, кто свободно выстаивает на ногах2, например, пятичасовой спектакль «Тристан и Изольда» Вагнера и после этого еще устраивает длительные овации исполнителям. Могу честно сказать, что нигде, кроме нашей страны, я не встречала еще таких благодарных слушателей, как в Вене. Никогда так не изумлялась горячей и чуткой реакции зрительного зала. При этом далеко не всегда одобрительной. Как пример приведу случай на премьере «Лючии ди Лам-
_________
1 Начальник отдела печати и информации при ведомстве федерального канцлера. По его инициативе и был приглашен советский критик на премьеру «Катерины Измайловой».
2 В Венской опере позади партера находятся, так сказать, «стоячие» места. Они дешевы и поэтому всегда заполнены любителями оперы самого разного возраста.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- Песня о дружбе 9
- О путях развития языка современной музыки 12
- Вместе с народом 27
- Вечно живая традиция 31
- Просторный мир музыканта 35
- Воспитанные современностью 44
- Повесть о нашей жизни 49
- Эдгар Тонс 51
- Молодые певцы 55
- По мотивам Райниса 60
- «Питер Граймс» 64
- Три вариации на одну тему 69
- Говорит Виктор Самс 72
- Филармония и слушатели 75
- С экрана телевизора 76
- Новые имена 77
- Обобщать практический опыт 80
- Ставит Голейзовский 85
- «Прекрасное должно быть величаво» 90
- «Великолепная четверка» 94
- К 70-летию М. О. Рейзена 97
- Страницы воспоминаний 104
- В концертных залах 110
- Голос слушателя 116
- Смотр композиторских сил 122
- Из наблюдений над стилем 125
- Певец венгерского пролетариата 134
- Город живых традиций 137
- Наш журнал 143
- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145
- Карлу Орфу — 70! 146
- Книга о Свиридове 147
- Народные корни 149
- Письма композитора 150
- Меньше слов, больше фактов 152
- Коротко о книгах 153
- Нотография 155
- Новые грамзаписи 158
- Вышли из печати 158
- Хроника 159



