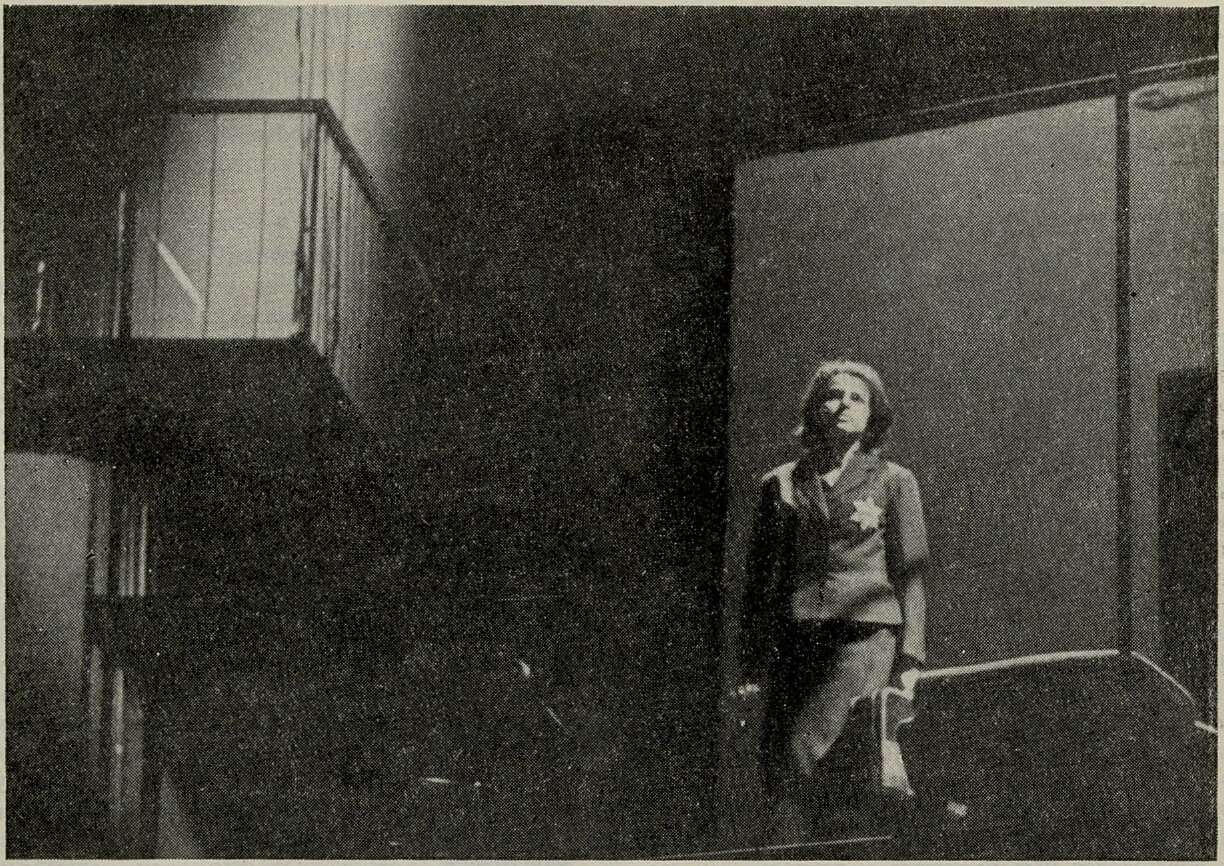Я. Йиранек
ГЕРОИЗМ И ПОЭЗИЯ БУДНЕЙ
В короткий срок опера чешского композитора Яна Ф. Фишера «Ромео, Джульетта и тьма», увидевшая в течение одного 1962 года свет рампы на сценах трех театров — в Брно, Праге и западногерманском городе Плауэне, привлекла к себе внимание. Сюжет ее взят из одноименной новеллы Яна Отченашека, сразу же завоевавшей популярность в Чехословакии и за рубежом и тогда же экранизированной.
Композитора заинтересовала не только шекспировская тема большой любви среди ужасов фашистского мрака, но прежде всего психологический и этический факт рождения подлинного героизма в людях простых и естественных, как сама повседневная жизнь. Он избирает форму реминисценций — воспоминаний свидетеля, живущего в сегодняшней Праге спустя двадцать лет после войны (пролог и эпилог произведения), и обращается устами актера к зрителю со следующими словами: «Мы иногда с восхищением читаем о великих событиях давнего прошлого, о сказочных героях в ореоле славы и не замечаем того, что на Житной улице мы встретили Электру или Юдифь, которых, конечно, зовут совсем обычно, да и ходят они в плаще «болонья», а руки их огрубели от работы, а чуть дальше нам попалась Ниобея, которая вновь стала улыбаться; мы не замечаем, что вокруг нас такие сюжеты, которые заслуживают гомеровских песен, хотя они и скрыты от глаз в старом доме и остаются незамеченными в шумном потоке современной истории».
Идейной концепции гражданского геройства Павла и Эстер отвечает весь стиль и характер оперы Фишера. Сам сюжет богат внутренними душевными конфликтами: в душе Эстер — борьба разума и чувства, требующих уйти и остаться одновременно; у Павла — борьба между любовью к Эстер и сознанием ответственности перед родителями: у отца Павла — колебания между страхом и мужеством. Композитор, однако, не стал на путь психологической драмы. Не вагнеровское проникновение в психологию как мир тайных и невидимых душевных побуждений, а, наоборот, ориентация на обычный и видимый мир, на тот или иной жизненный момент с его неразрывным, разумеется, психологическим подтекстом — вот что образует драматургический остов сценического произведения Фишера. Это полностью отвечает концепции героизма как «само собой разумеющегося» в жизни простых людей в трагическую и величественную эпоху.
Фишер, будучи опытным литератором1, сам написал либретто, сделав некоторые существенные изменения, усиливающие драматические черты произведения. С одной стороны, он увеличил роль подмастерья Чепека, который стал одной из ведущих фигур в развитии действия, с другой — так перестроил последнюю сцену Эстер и Павла, что не Павел, а сама девушка узнает о том, что место ее пребывания обнаружено. Оба изменения были продиктованы прежде всего идейными соображениями. Сопротивление Чепека — сопротивление простого чешского человека нацистам — становится важным драматургическим фактором, а изменения в финальной сцене делают из Эстер героиню, достойную Павла. Рядом с Павлом, который рискует своей жизнью и жизнью близких, чтобы спасти ту, которая стала для него дороже всего, встает образ женщины, сознательно идущей на верную смерть, потому что иначе... «его бы убили». И в то же время композитор стремился остаться как можно более верным оригиналу, даже в деталях. Неудивительно, что результат понятой таким образом драматургической обработки ближе к киносценарию, чем к оперному либретто обычного типа. Если мы возьмем за основу каждую сценическую перемену, то насчитаем двадцать шесть картин, целый ряд из которых в свою очередь распадается на отдельные очень лаконичные явления. Некоторые картины представляют моменты, напоминающие кинокадры (например, встреча Эстер и Чепека вечером в мастерской, сцена Павла и Эстер после ареста художника Матоуша или пестрое чередование эпизодов на лестнице и в комнатке Эстер в момент драматической кульминации перед самой катастрофой). Так возникает форма, которая по своей чисто кинематографической технике приближается к жанру кинооперы.
Такой драматургической направленности полностью отвечает стиль и музыкальный язык произведения, в котором, естественно, преобладает ситуационная, а не персональная характеристика.
_________
1 О чем свидетельствует его обширная переводческая деятельность в области романских языков.
Сцена из спектакля
Она вырастает прежде всего из речевой декламации, но использует и жанровые средства музыкального кинематографа. (Здесь следует отметить, что у Фишера долголетний опыт работы в области музыки для театра и кино.) Так, например, в характеристике Чепека композитор создает типичный образ народного чешского бунтаря, чья песня о вермахте вводит нас в атмосферу швейковского юмора. Автор популярных жанрово-острых песен создал мелодию, стилизованную под ярмарочную, — настоящий прототип музыкальной сатиры, скрывающей, как и герой Гашека, здоровое жизненное ядро под оболочкой внешней тривиальности.
Мир чувств своих героев Фишер ограничивает сферой, близкой к так называемым жанрово-бытовым интонациям. Это мечта обыкновенных молодых людей, тоскующих по совершенно простым радостям, в которых им отказано. Когда Павел спрашивает Эстер, что бы она хотела делать, когда кончится война, то сам вопрос звучит в каком-то успокаивающе беспечном тоне танца, а ее ответ: «Пойдем по Праге, куда только захочешь, и все смогут нас видеть вместе!» — внешне напоминает покачивающиеся ритмы вальса. Возможно, таково и должно быть самое верное психологическое решение, ибо в ту тяжелую пору это было светлой надеждой для измученных страхом и тревогами людей.
Особого внимания заслуживает тот способ музыкально-драматической характеристики, который я назвал, ввиду отсутствия другого подходящего термина, музыкально-кинематографическим. Кто хоть немного знаком с техникой кино, знает, какую роль здесь играет время и как в киномонтаже учитываются не только минуты, но даже секунды. Это, естественно, не может не сказаться и на специфическом характере киномузыки, которая рассчитана на моментальный выразительный эффект. Не случайно поэтому в киномузыке особая роль поручается тембру как одному из наиболее мгновенно действующих изобразительных средств. Отсюда своеобразие и сочность тембров, используемых Фишером. Так, например, в сцене лирического признания Павла и Эстер композитор передает экстаз дан-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Служи, солдат!» 7
- Живая легенда 9
- Утверждение света 18
- «Это не должно повториться!» 24
- Песни партизанского края 26
- Два интервью 34
- «Сторонник Московской консерватории» 39
- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41
- Москва, 1941… 43
- По страницам дневника 46
- Радости и огорчения Саратовского оперного 51
- Одесские очерки 56
- Как ротный простой запевала 68
- В концертных залах 73
- Из автобиографии 86
- С чистой совестью 93
- Партизанка 95
- Советы мастера 99
- Педагогика — призвание? 107
- 25 дней в США 109
- «Военный реквием» Бриттена 115
- Народный художник 124
- Героизм и поэзия будней 131
- Солистка филармонии 134
- Будни музыкальной Праги 136
- «Катерина Измайлова» 142
- К истории «Моцартеума» 145
- Вена, май — июнь 145
- Русская Лиза 146
- Память сердца 147
- На боевых кораблях 149
- Слово фронтового журналиста 151
- Артисты-бойцы 152
- Во имя победы 155
- В борьбе за жизнь 158
- О тех, кто не вернулся 160
- Хроника 162