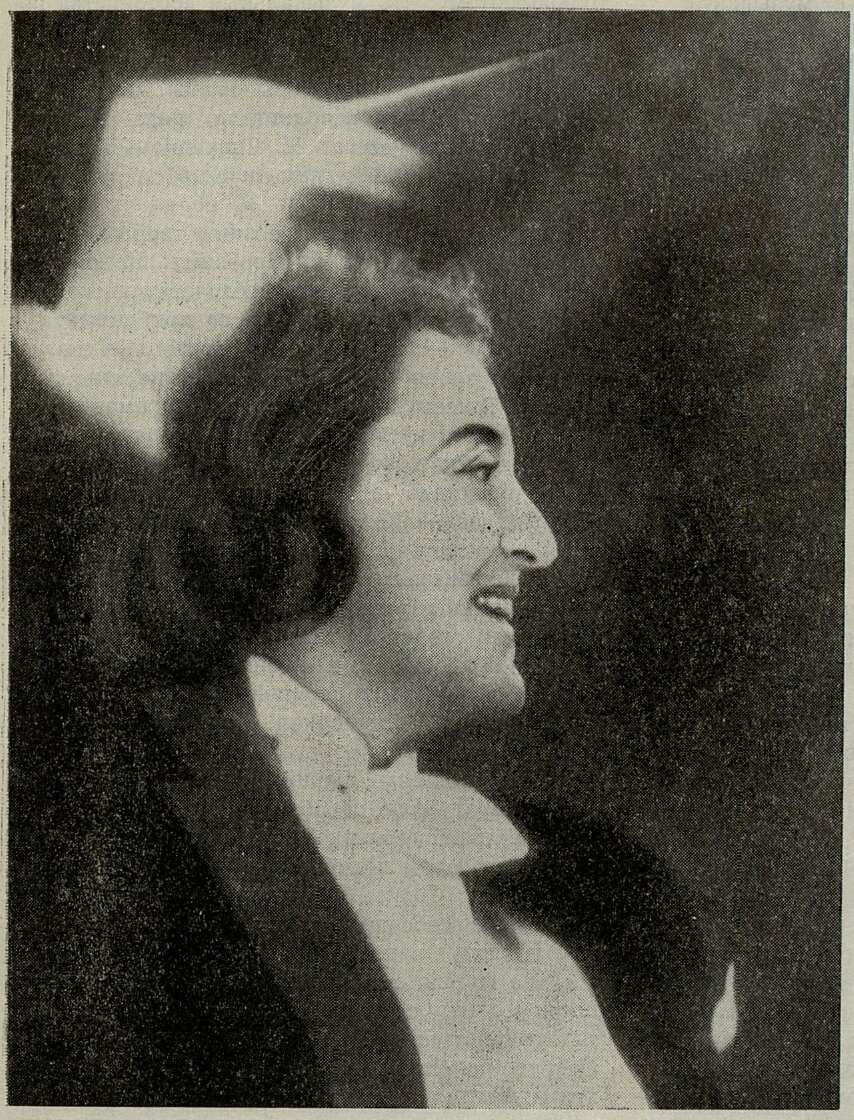
хора. Оба — монументальные полотна, требующие от дирижера не только свободного владения всеми средствами «симфонической речи», но и глубокого постижения певческого искусства, чувства музыкальной драматургии. С большим успехом прошли гастрольные выступления Коломийцевой как оперного и симфонического дирижера в Варшаве и Лодзи.
Пятнадцать лет работы в театре позволили накопить разнообразный репертуар, включающий свыше тридцати названий. Не будем перечислять их. Скажем лучше о некоторых принципах Коломийцевой, проявляющихся в формировании этого репертуара.
Во-первых, Коломийцева стремится исполнять произведения свежие, незаигранные. Об этом свидетельствуют «Орестея», пролежавшая полузабытой почти пятьдесят лет, «Щелкунчик», «Рафаэль», «Фра-Дьяволо», сравнительно редко появляющиеся на театральных афишах.
Во-вторых, она отдает предпочтение оперно-балетным произведениям большого симфонического звучания, таким, как «Пиковая дама», прокофьевская «Золушка», «Тропою грома» К. Караева, «Болеро» Равеля... Мечтает Коломийцева продирижировать «Летучим голландцем» и другими операми Вагнера, «Кавалером роз» Р. Штрауса, «Катериной Измайловой» Д. Шостаковича, одноактными балетами на его музыку.
И наконец, Коломийцева настойчиво и умело пропагандирует лучшие образцы советской музыки. Справедливости ради следует сказать, что это желание долгое время не встречало особого энтузиазма со стороны бывшего музыкального руководства театра. И потому постановка, скажем, прокофьевских произведений была делом сложным для белорусской сцены. В том, что сначала «Обручение в монастыре», а вслед за ним и «Золушка» увидели свет в Минске, — несомненная заслуга Коломийцевой. Преодолевать на этом пути дирижеру пришлось не только административно-организационные и кассовые препоны. Обнаружилось еще одно, может быть, самое сложное препятствие: известный консерватизм музыкального восприятия как слушателей, так и самих исполнителей. Удивительное дело! В городе бок о бок существуют два симфонических коллектива, а какая разница в восприятии музыки и в отношении к современному музыкальному творчеству! В зале филармонии музыка Прокофьева — частая и желанная гостья, ее давно приняли и полюбили. В оперном же театре все еще ведутся дискуссии о ее «сложности» и «непривычности». И дело тут не в разном уровне профессиональной подготовленности, а в том музыкальном материале, на котором повсе-
дневно воспитывается слух (и вкус) музыканта. Вот почему традиции исполнения замечательной прокофьевской музыки еще только вырабатываются на белорусской оперной сцене.
Легкая, изящная, искрящаяся весельем музыка «Обручения в монастыре» (1962) нашла в лице Коломийцевой темпераментного интерпретатора, чье мастерство привлекает отточенностью мелодического, ритмического и штрихового рисунка и виртуозным блеском. В работе над этим произведением, очень трудным в вокальном отношении, особенно ощутимо внимание дирижера к певцу, к естественности вокальной фразировки, к певческому дыханию, к стройности ведения голосов в замечательных прокофьевских ансамблях. Этот же спектакль показателен и в отношении слитности замыслов дирижера и режиссера-постановщика (Д. Смолич), когда каждый жест, каждое сценическое движение идут от музыки, обусловливаются ею.
Музыка «Золушки» (премьера состоялась в январе текущего года), глубоко лирическая, нежная, трогательно чистая и целомудренная, требует от дирижера иных качеств: мягкости и тонкости, гибкости нюансировки, едва уловимой смены градаций тех или иных чувств — от легкой грусти, печали, светлой задумчивости и мечтательности до всепронизывающего ощущения счастья, щедрой душевной наполненности, умения извлекать из оркестра теплый тон, «вытягивать» мелодии нескончаемого дыхания. Нелегко добиться этого, в особенности если в оркестре, скажем, всего пять виолончелей, а именно им поручена Прокофьевым одна из самых прекрасных его тем — певучее Адажио из второго действия, льющееся широким потоком. «Выжимая» из оркестра все, что можно, Коломийцева все же достигает нужного эффекта. Она великолепно чувствует и умеет оттенить теплый лиризм, акварельную мягкость тем Золушки и нарочитую чопорность придворного танца или блестящую светскость мазурки, волшебную таинственность темы доброй Феи-нищенки и капризную угловатость вариаций сестер, зачарованную хрустальную звучность оркестрового эпизода перед появлением Золушки на балу и напористость, устремленность галопов Принца. Творческое содружество балетмейстера Р. Захарова, осуществившего постановку, и белорусского дирижера принесло замечательные плоды.
Ждут своей очереди еще два произведения классика советской музыки — «Ромео и Джульетта» и, быть может, «Любовь к трем апельсинам».
Работа Коломийцевой над танеевской «Орестеей» (1963) — предмет особого разговора. И не только потому, что музыкальные достоинства постановки — наиболее сильная ее сторона, бесспорное достижение театра. Заслуживает внимания отточенность вокальных образов, которой добились дирижер и исполнители ряда ведущих партий (прежде всего Н. Ткаченко — исполнительница труднейшей драматической партии пророчицы Кассандры).
В работе над этим грандиозным творением сказалась еще одна грань дарования Коломийцевой — способность к почти исследовательской работе над партитурой с целью ее приближения к. восприятию сегодняшнего зрителя — скажем прямо, не слишком знакомого ни с оперным творчеством Танеева, ни с античной драматургией. Понадобилось чуть ли не полвека для того, чтобы не в Москве, Ленинграде, а «где-то в Минске» опера предстала перед зрителем благодаря смелой инициативе Коломийцевой и творческой дерзости режиссера Д. Смолича, сумевших заразить, своим энтузиазмом весь коллектив и заставить его поверить в успех задуманного. И, несмотря на то, что столичная пресса по-разному оценила сложную работу по сокращению партитуры, усмотрев в ней некоторые изъяны (на мой взгляд, безосновательно), бесспорная ценность ее — в сохранении и донесении богатства танеевской музыки. Кстати сказать, дирижер осуществил некоторую литературную обработку либретто, Коломийцева показала себя вдохновенным и серьезным интерпретатором полной трагической силы музыки Танеева. Сочное компактное форте оркестровых тутти (особенно в теме возмездия или в гимне Аполлону), четкая штриховая выразительность в сцене фурий, стремление к легкости и прозрачности в одних эпизодах и, наоборот, к нестерпимо звонкому, солнечно-ликующему звучанию в симфоническом антракте к «божественной» картине в храме Аполлона, чистота строя — всего этого удалось добиться не только благодаря энтузиазму, но и кропотливому труду. Показ «Орестеи» в Кремлевском Дворце съездов принес спектаклю и его создателям большой и заслуженный успех.
С большим увлечением работает Коломийцева и над белорусским репертуаром. В числе постановок, осуществленных под ее руководством, балет «Князь-озеро» В. Золотарева (один из лучших, национальных белорусских спектаклей), а также балет Г. Вагнера «Подставная невеста».
Мечтает дирижер и о постановке опер современных зарубежных композиторов, например «Питера Граймса» Бриттена или «Человеческого голоса» Пуленка. И вместе с тем ее горячо волнует предстоящая работа над «простой» «Богемой» или над добрым старым григовским «Пер Гюнтом».
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Слушайте Ленина!» 7
- Патетическая симфония 9
- Из архивов Н. К. Крупской 20
- Победа Стеньки Разина 24
- Поэтичные страницы 28
- Грузинские впечатления 32
- Опера сегодня 37
- В прениях выступили 46
- Размышления после премьеры 55
- Встречи и размышления 58
- Широта устремлений 63
- Из воспоминаний 67
- Чудесный дар 69
- Ефрему Цимбалисту — 75! 71
- Первая виолончель Франции 73
- В концертных залах 76
- Спустя полвека 86
- В поисках нового языка 92
- Реплика В. Брянцевой 95
- Без единого руководства 97
- Письмо из Тувы 99
- Мировоззрение и эстетика 101
- Воспитание музыкой 114
- По системе Кодая 117
- Софийские встречи 126
- На музыкальной орбите 135
- Труд большого ученого 142
- «Близнецы» 145
- Нотография 149
- Новые грамзаписи 150
- Хроника 151



