
На даче. Зимой
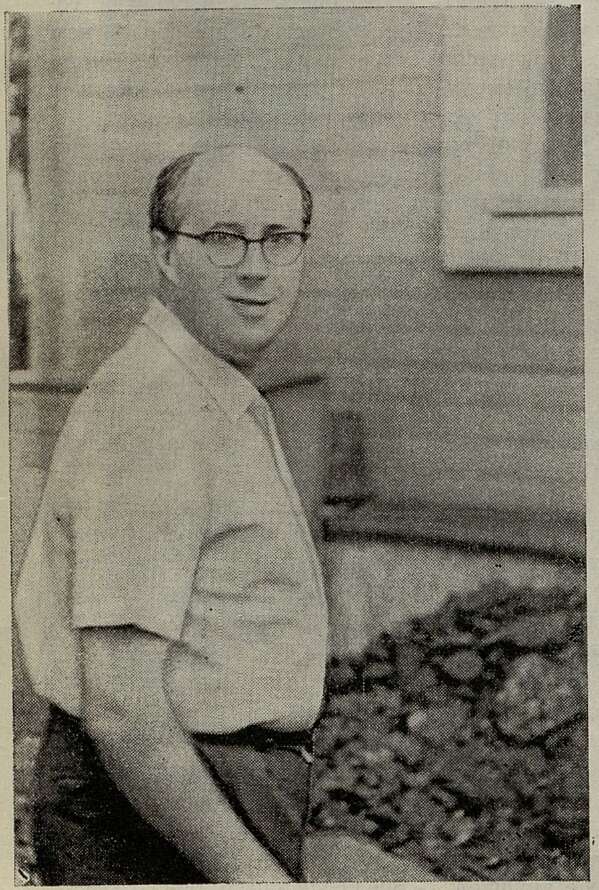
Летом
Фото В. Власова
мах? Продолжить работу, объявив новый цикл? Записать на пластинки все лучшие концерты, дабы увековечить этот творческий труд для потомства? На все эти вопросы ответит сам Ростропович. Он полон новыми планами. И планы эти, как всегда, смелы, неожиданны, грандиозны. А главное, обязательно будут воплощены в жизнь.
После получения Ленинской премии М. Ростропович сказал: «Награда не успокаивает, а тревожит, зовет вперед. Хочется открывать людям красоту музыки, глубокий внутренний мир советского человека, его благородные устремления и сильные чувства».
Мы твердо знаем — Ростропович это выполнит!
Уроки мастерства
И. Кузнецова
Путь артиста. Какой мерой его можно измерить — годами, количеством спетых партий, числом созданных образов, интенсивностью жизни в искусстве? Казалось бы, все это находится в тесной взаимосвязи. Но далеко не всегда. Бывает, что и партий достаточно, а образов почти нет. По годам — путь большой, а по творческой отдаче — бедный; замыслов много, а выполнено ничтожно мало. Будто рванул тяжесть, да так и не поднял: не рассчитал сил...
Мы часто произносим слова «талант», «дарование», не вникая в смысл этих понятий. Они стали чем-то вроде... прилагательных для образования «вежливой формы». И, пожалуй, не удивительно, если сегодня читатели наши недоумевают, когда об исполнителе, который им очень нравится, пишут, что многого он достиг трудом (а не получил готовым от природы), многое завоевал в борьбе с самим собой — с иллюзией о якобы собственных безграничных возможностях... А ведь, пожалуй, только это и делает художественно одаренного человека подлинным артистом...
Но все же, есть ли мера таланта? Вероятно, есть. И заключена она скорей всего в умении раскрыть людям правду и мудрость жизни.
Перед артистами, владеющими этим высшим даром творчества, отступает даже время — фактор, казалось бы, неумолимый. Долголетие художника — это прежде всего подвиг человека... Именно об этом думаешь, когда встречаешься с искусством Сергея Яковлевича Лемешева.
Вот перед нами программа его сольного концерта: Глинка, Рахманинов, Балакирев, Булахов, Варламов, Гурилев, Даргомыжский... Сказать, что Лемешев на концертной эстраде играет, было бы неверно. Но в нем очень силен дух творческой импровизации. Поэтому всегда кажется, что он поет от первого лица. Поет, сам творя музыку, находя единственно нужные слова. Это одна из самых ярких особенностей его исполнительской манеры. Его трактовку порой можно не принять, но ее нельзя не понять. Проникая в музыкальную архитектонику фразы, он одновременно ощущает и ее смысловой подтекст. Когда ему подсказывает это логика развития образа, психология поведения героя, он по-своему расставляет акценты. Тогда даже хорошо знакомая музыка воспринимается по-новому, в ней возникают иные характеры, рождаются иные причинные связи между событием и человеком, завязываются острые, порой трагедийные конфликты. Так звучит Рахманинов — «Сон», «Ночь печальна», «Как мне больно», «Отрывок из Мюссе». Это не элегии и не жалобы, хотя часто именно так прочитывают рахманиновские драматические романсы. Вслушайтесь в одну лишь фразу: «Хоть бы старость пришла поскорей...» Певец подчеркивает слово «старость», которую призывает к себе герой полный сил, бушующих чувств, словно пытаясь заглушить, преодолеть мучительную горечь утраты... И голос его не дрожит. В нем не слышатся мольбы о снисхождении. Он не боится смотреть в будущее, хотя в нем нет даже проблеска надежды...
Или «Отрывок из Мюссе», с его тревожно пульсирующей мелодией, будто торопливые, неверные шаги в кромешной тьме:
Чем я взволнован, испуган в ночи?..
Кто-то вошел...
И вслед за напряженной паузой неумолимое прозрение: «Моя келья пуста» — томительно тянется бесплотный звук.
«Это полночь пробило» — и снова томительно тянется безнадежность. Никаких иллюзий. Герой снова смотрит правде в глаза: «О одиночество!..»
И невольно вспоминается четвертый акт чеховских «Трех сестер»: вдали играет марш, уходит из города полк Вершинина, и на фоне бодро-торжественного оркестра звучат мужественные в своей горькой парадоксальности слова Ирины: «Надо жить!»
Конечно, любая подобная аналогия условна. Но не в способности ли вызвать ее одна из пленительных тайн искусства?
А вот Балакирев...
Безудержной, открытой страстностью веет от слов: «Введи меня, о ночь, тайком...» Юноша в порыве чувств уговаривает, заклинает, даже внушает: «Введи невидимо, она, о знаю
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Ответственность перед будущим 5
- Оптимистическая педагогика 10
- Упущенные возможности 19
- Школа играющая, школа поющая 21
- Встреча за круглым столом 23
- Москва. Праздник песни 27
- Художник мужественный, светлый… 28
- На пороге музыкального театра 36
- К дискуссии об опере 41
- 50 реплик композитора 46
- Рассказывает Хари Янош 49
- Режиссер? Дирижер? 55
- Эстетика Ф. Э. Баха 61
- Мстислав Ростропович 68
- Уроки мастерства 74
- Обновить курс истории пианизма 77
- Начало пути 80
- Великий гитарист 83
- Моя парабола 88
- Письма из городов. Из Донецка 93
- Письма из городов. Из Орджоникидзе 94
- Письма из городов. Из Горького 94
- Программы вокальных вечеров 95
- Малеровский цикл 96
- Зарубежные пианисты. Микеланджели 97
- Зарубежные пианисты. Сесиль Уссе 98
- Зарубежные пианисты. Юджин Лист 99
- За фильм композитора! 100
- Режиссер и композитор 103
- Религия и музыка современного Запада 109
- Слово румынским музыкантам 119
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 121
- Джордже Энеску — певец Румынии 122
- Демократический жанр 128
- Хроника музыкальной жизни Румынии 131
- «Ива» 133
- На гостеприимной земле Румынии 137
- На гостеприимной земле Румынии 141
- Чрезвычайное положение в 1-Б 143
- ...Даешь духовный детский рост! 146
- Говорит Д. Кабалевский 147
- В мире детворы 148
- К 50-летию Октября 149
- «Каджана» 150
- Детям — от Юло Винтера 150
- В Ташкенте 151
- На сюжет Джанни Родари 152
- Когда поют школьники... 156
- [Авторский концерт композитора Нины Макаровой] 157
- Памяти А. И. Шавердяна 158
- Премьеры 158
- Народная певческая... 159
- Письмо в редакцию 159
- Здесь звучит музыка... 160
- Беспризорные рояли 161
- Честные голоса Японии 162
- Имени Андреева 162
- С двадцатилетием! 163
- Старейший, но вечно юный 163
- Памяти ушедших. Ф. Н. Надененко 164
- Памяти ушедших. В. И. Садовников 164



