нальными сдвигами при общей ясности, определенности, четкости кадансирования. Или отметим небывало развитую модуляционность (даже в масштабе периода и нередко в экспозиционных изложениях и даже в лирических пьесах) при неизменной опоре на тонику («постройка музыкального здания в тоне — постройка здания на солидном фундаменте, а постройка без тона — постройка на песке», — говорил сам композитор)1.
Наконец, необычен контраст ладотонального безразличия и ладотональной определенности («Сарказмы»).
Тенденция к усилению контрастного начала сказывается и в принципах формообразования: в соотношении частей цикла и в особенности в разделах сонатного аллегро. Вспомним сплав квадратно-симметричных структур построения с неуравновешенной, стихийной лавой движения, словно опровергающей пропорциональность этих структур. Об этом же хорошо писал И. Нестьев: «Стремление композитора к динамизации музыкальной формы сказалось и в максимальной обостренности контрастов. В его произведениях подчас резко сталкиваются образы светлой мечты и романтических порывов с бешеной яростью или дерзкой насмешкой. Противопоставление нежнейшей лирики и нервно-аппассионатного драматизма, типичное для многих непрограммных пьес Прокофьева, позволяет различить в его личной, субъективной сфере "две души", два полярных состояния — это "Эвзебий и Флорестан", воскресшие на музыкальной почве XX столетия»2. Не только «воскресшие», но как бы спаявшиеся в диалектическом единстве — добавим мы. Кроме того — самое главное! — у романтиков путь от конфликтных образов вел нередко к неудовлетворенности, смятению и далее — либо пессимизму, либо индивидуалистическому бунтарству, а у Прокофьева (если взять общую тенденцию его творчества) — к жизнеутверждающему оптимизму3.
В значительной степени именно качественные особенности прокофьевской поэтики контраста обусловили и конденсированный лаконизм его фортепианного стиля, отказ от всякой «пассажной воды», от виртуозных рамплиссажей, украшательской орнаментики. Это не тот лаконизм так называемого «единого современного стиля» — лаконизм ради лаконизма, которым, подчас, щеголяют некоторые «ультрасовременные» художники Запада, столь же мало успешно отражающие действительность в ее магистральных тенденциях, сколь и художники, ставящие себе целью динамизм ради динамизма или условность ради условности. Нет, лаконизм Прокофьева решительно не таков, ибо он прежде всего целенаправлен и исходит не из формы, а из содержания. Воспринимая мир по преимуществу через призму контраста, борьбы гигантских исторических сил, Прокофьев хочет говорить лишь о главном и большом; он не имеет «времени и места» говорить о мелком, а потому высказывается в крупном плане, экономно, лапидарно и сжато, порой даже «вырубая» (как Маяковский) цельные «глыбы» мыслей и чувств. И в этом также одно из существенных отличий его творческого метода от самоцельного формотворчества, субъективистски изысканной поверхностности и мелкотемья художников декаданса.
Наконец, поэтика контраста вызвала к жизни ярчайшее явление — новый пианизм Прокофьева как адекватное исполнительское выражение нового характера образности.
Поэтика обостренного контраста оставалась характерной для всего творчества композитора1. Разумеется, произведения 1934–1953 годов, уже формировавшиеся под непосредственным воздействием эстетики социалистического реализма, имеют психологически более конкретные «жизненные» предпосылки (предчувствие грозных исторических событий, ненависть к фашизму, мысли и переживания, связанные с Великой Отечественной войной, настроения советского патриотизма, радость победы гуманистических сил, предвосхищение светлого будущего и т. д.).
_________
1 См.: И. Нестьев. Прокофьев. Музгиз. М.,1957, стр. 497–498.
2 Там же.
3 Если композитор в формообразовании фортепианных произведений и отталкивался от эстетики романтиков, то скорей (как бы это, возможно, ни показалось парадоксальным) от классической кристальности формы Шопена, чем от беспокойно неуравновешенной импровизационной формы Шумана; не избежал он и воздействий листовской свободной одночастности (например, в Третьей сонате или Первом концерте).
1 «Наиболее значительным сочинениям Прокофьева присуща обостренная контрастность музыкальных образов, воплощающих полярные явления современной жизни», — пишет и С. Слонимский в статье «Черты симфонизма С. Прокофьева» в сб. «Музыка и современность», Музгиз, М., 1962, стр. 57.
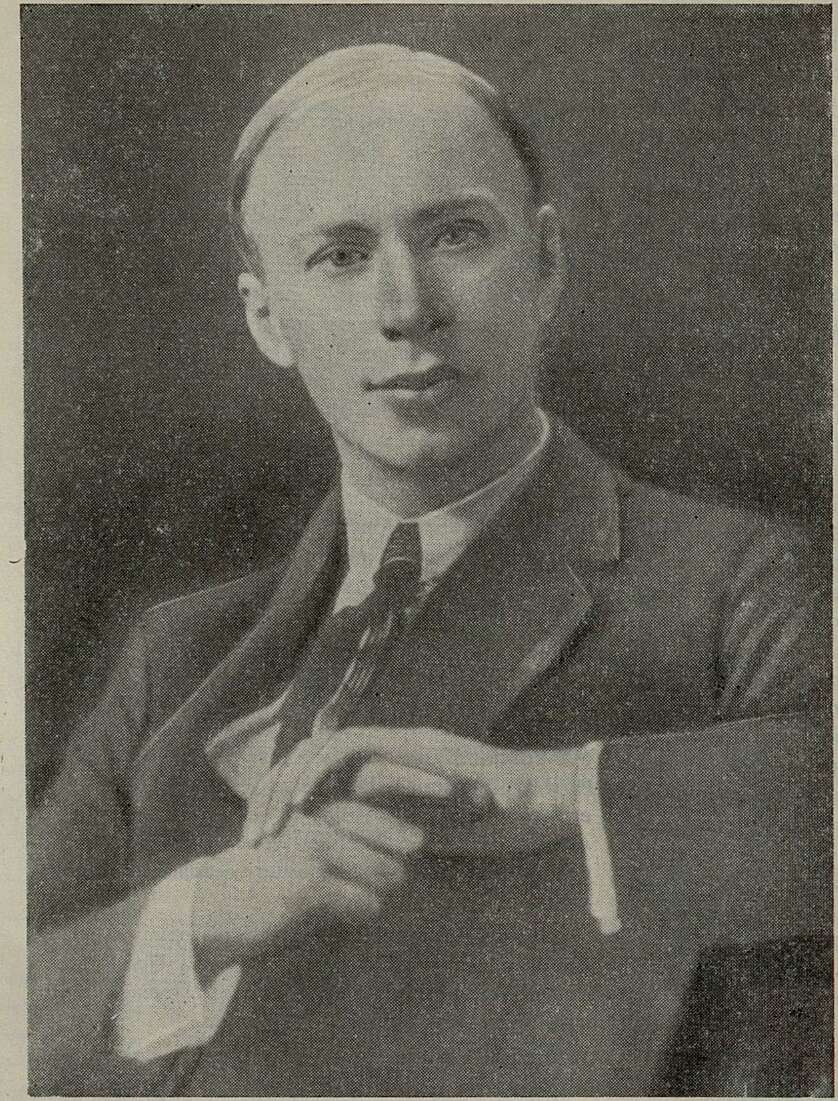
С. Прокофьев. 20-е годы
К тому же особенность творчества Прокофьева заключалась еще и в том, что поэтика контраста органично сочеталась в нем с поэтикой классической ясности, стройности и гармоничности. Оно нередко обнаруживало резкое сопоставление этих художественных тенденций — достаточно напомнить о ранней Классической симфонии (ор. 25), писавшейся в 1916 году непосредственно вслед и даже одновременно с оперой «Игрок» (ор. 24).
Но крайности «больного века», порой приводившие к односторонней гипертрофии поэтики обостренного контраста, в конечном счете вытеснялись солнечным мироощущением духовно здорового человека. И чем дальше, тем мудрей и лучезарней становилась музыка композитора, тем звонче и трепетней звучала в ней нота весеннего обновления («Сказ о каменном цветке», «На страже мира», Симфония-концерт для виолончели с оркестром, Седьмая симфония, Девятая соната и др.). Да иначе и быть не могло, ибо музыка эта все более осмысленно отражала глубинные явления самой действительности в ее развитии, отражала не только сегодняшнюю судьбу мира, но и его прекрасное Завтра. Так бурная контрастно-конфликтная, а порой даже «разрушительная» эстетика раннего Прокофьева закономерно вытеснялась утверждением позитивных идеалов, вдохновенной проповедью добра и человечности. Пафосом прекрасного пронизана кода всего его творческого пути. Но об этом речь еще впереди...
2
Другой важнейшей чертой эстетики Прокофьева является его новаторское отношение к психологии музыкального восприятия. Речь идет о принципе компенсации сложного простым. Этот принцип обусловлен стремлением композитора обеспечить своему творчеству широкий общественный резонанс глубоко органичным (у раннего Прокофьева главным образом подсознательным) ощущением социальной роли искусства. И эти субъективные пожелания совпадали с объективным требованием времени и прогрессивной среды. Прокофьев не только «не хочет», но и «не может» стать художником для немногих.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Ответственность перед будущим 5
- Оптимистическая педагогика 10
- Упущенные возможности 19
- Школа играющая, школа поющая 21
- Встреча за круглым столом 23
- Москва. Праздник песни 27
- Художник мужественный, светлый… 28
- На пороге музыкального театра 36
- К дискуссии об опере 41
- 50 реплик композитора 46
- Рассказывает Хари Янош 49
- Режиссер? Дирижер? 55
- Эстетика Ф. Э. Баха 61
- Мстислав Ростропович 68
- Уроки мастерства 74
- Обновить курс истории пианизма 77
- Начало пути 80
- Великий гитарист 83
- Моя парабола 88
- Письма из городов. Из Донецка 93
- Письма из городов. Из Орджоникидзе 94
- Письма из городов. Из Горького 94
- Программы вокальных вечеров 95
- Малеровский цикл 96
- Зарубежные пианисты. Микеланджели 97
- Зарубежные пианисты. Сесиль Уссе 98
- Зарубежные пианисты. Юджин Лист 99
- За фильм композитора! 100
- Режиссер и композитор 103
- Религия и музыка современного Запада 109
- Слово румынским музыкантам 119
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 121
- Джордже Энеску — певец Румынии 122
- Демократический жанр 128
- Хроника музыкальной жизни Румынии 131
- «Ива» 133
- На гостеприимной земле Румынии 137
- На гостеприимной земле Румынии 141
- Чрезвычайное положение в 1-Б 143
- ...Даешь духовный детский рост! 146
- Говорит Д. Кабалевский 147
- В мире детворы 148
- К 50-летию Октября 149
- «Каджана» 150
- Детям — от Юло Винтера 150
- В Ташкенте 151
- На сюжет Джанни Родари 152
- Когда поют школьники... 156
- [Авторский концерт композитора Нины Макаровой] 157
- Памяти А. И. Шавердяна 158
- Премьеры 158
- Народная певческая... 159
- Письмо в редакцию 159
- Здесь звучит музыка... 160
- Беспризорные рояли 161
- Честные голоса Японии 162
- Имени Андреева 162
- С двадцатилетием! 163
- Старейший, но вечно юный 163
- Памяти ушедших. Ф. Н. Надененко 164
- Памяти ушедших. В. И. Садовников 164



