КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
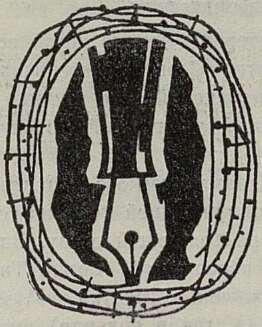
В. Бобровский
Симфоническая опера
Пройдет еще немало времени, прежде чем мы сможем осознать все мастерство драматургии, которое открыла нам опера Д. Шостаковича «Катерина Измайлова», возобновленная в театре им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко. Для того, чтобы детально и всесторонне осветить замысел, драматургию произведения, творческий метод и стиль композитора, потребуются, вероятно, исследования. Но уже сейчас, по прошествии полутора лет после второго сценического рождения оперы, необходимо регулярно обмениваться соображениями хотя бы по поводу отдельных проблем, выдвигаемых «Катериной Измайловой».
В данной статье делается попытка рассмотреть некоторые особенности драматургии оперы, ее творческого метода.
*
Прежде всего, о позиции, с которой подошел Шостакович к повести Лескова. Как известно, он попытался прочесть ее по-новому — усилить социальные мотивы в истолковании характеров и поступков основных действующих лиц. У Лескова Катерина Измайлова — натура сильная, однако хищная, непривлекательная; намерения вызвать у читателя симпатию к своей героине у писателя не было. Он полностью осуждает Катерину. А вот Шостакович, прочтя повесть, вдохновился стремлением придать ее образу глубокую человечность, душевную одаренность и чистоту. Это стремление обусловлено самой сущностью творчества Шостаковича, его тенденцией обнажать внутренние противоречия жизненных явлений. (Эта особенность сближает композитора с Достоевским, для которого так характерно уменье находить в болезненных, замученных, затравленных буржуазным строем, иной раз даже преступных душах драгоценные кристаллы нравственной красоты.)
Дело не ограничивается изъятием из сюжета
_________
Статья публикуется в порядке обсуждения
повести особенно жестоких поступков (например, убийство ребенка). Совсем по-иному, чем у Лескова, дан психологический портрет героини. Если в повести Измайлова — похотливая и расчетливая хищница, то у Шостаковича Катерина не может смириться с содеянным, совесть мучает ее 1, и поэтому она все время находится на грани саморазоблачения. И это понятно: «оперная» Катерина не порочна сама по себе; злодеяния она совершает только во имя того, чтобы защитить свою любовь; в окружающем «темном царстве» она не находит иного выхода, а любовь ее достигает такой силы, на которую способны лишь редкие натуры.
Забегая вперед, отметим одну важнейшую деталь. В первых картинах оперы, в возникающем «романе» Сергея и Катерины нет ничего возвышенного — недаром же Шостакович здесь в ироническом плане преломляет некоторые приемы итальянских оперных дуэтов (сцена ночного прощания в четвертой картине). Но после расправы свекра над Сергеем, после страданий и мук, пережитых героиней оперы, любовь Катерины к Сергею становится уже большим и глубоким чувством, — об этом говорит музыка пятой картины...
Однако либретто оперы в целом вовсе не лишено бытовых деталей. Стремясь к контрастным противопоставлениям, Шостакович подробно, а главное, сильно и остро выписал картину пошлого и злобного мирка, который окружает Катерину. Надо оговорить: либретто отяжелено выявлением зверских инстинктов, сценами издевательств. Все же главное в опере — музыка. А музыка Шостаковича такова, что словно бы помимо воли и желания начинаешь любить Катерину, чувствовать ее живую душу.
Именно в этом внутреннее противоречие оперы: то, что происходит на сцене, вызывает порой прямо отталкивающее впечатление (вся вторая картина, сцена порки Сергея, оба убийства). Но музыка в целом, наоборот, возвышает сюжет до уровня подлинной трагедии. Прекрасная музыка, характеризующая Катерину, каторжников, как бы поднимает нас над конкретными фактами. Их внешнее содержание, особенно к концу оперы, отходит на второй план, становится чем-то «фоновым». На поверхность же выступают глубокие переживания человека. Именно человека: композитор заставляет нас верить в искренность любви, в силу и значительность страданий героини.
Таким образом, в опере Шостаковича высокая музыка — ее главное действующее лицо (подобно тому, как, по выражению Гоголя, в «Ревизоре» смех — «благородное действующее лицо»). Мы, потрясенные музыкой, покидаем зал с сознанием того, что сила человечности, сила духовной красоты живет и при самых ужасных жизненных условиях. В этом этическое значение оперы.
И если все же есть основание для разных, порой противоположных оценок оперы, если голос рассудка по окончании спектакля иногда вступает в спор с чувством, то объясняется это тем, что в годы создания «Катерины Измайловой» Шостакович был молод и не достиг еще той мудрой зрелости, при которой авторское решение творческой проблемы абсолютно убеждает. В чем же «повинен» здесь двадцатишестилетний композитор? Только в том, что он чересчур увлекся замыслом, не сумев до конца взвесить возможности, которые имеются в повести Лескова. Но этот недостаток — от изобилия творческих сил, им же отмечена и Четвертая симфония. Но если в симфоническом творчестве эпоха зрелости наступила с Пятой симфонией, то, как известно, развитие оперного таланта Шостаковича, к сожалению, надолго остановилось на «Катерине Измайловой». Сложись иначе — вероятно, следующий же опыт в данном жанре оказался бы и зрелее, и совершенней.
*
Итак, музыка оперы возвышает образ Катерины. Образ героини резко отделен от окружающего. Ее партия кардинально противополагается всему остальному.
Дело не только в том, что портрет Катерины написан в целом наиболее певучей, красивой и пластичной музыкой, но и в том, что эта музыка разворачивается в стремительном развитии. От первой песни «Муравей тащит соломинку» до последнего по-шекспировски трагического монолога «В лесу, в самой чаще есть озеро» — огромная дистанция, определяемая масштабностью замысла, который без всякого преувеличения можно назвать истинно симфоническим.
Если образ Катерины дан по круто восходящей спирали, то партия Сергея претерпевает значительно меньше изменений. Его музыка носит то нарочито банальный лирический, то сатирический и гротесковый характер.
Третья линия драматического развития связана с воплощением окружающей героиню социально-бытовой среды, разъедающей душу. Здесь выделены отдельные персонажи — Борис Тимофеевич, задрипанный мужичок, Сонетка. Музыка этого рода (как хоровая, так и сольная) очень много-
_________
1 Сцена ее галлюцинаций напоминает аналогичную сцену из «Бориса Годунова».
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Разлив» 7
- Партия и искусство 19
- «Кружевница Настя» 27
- «Дороги дальние» 34
- «Героическая поэма» 38
- «Куба — любовь моя» 42
- «Шакунтала» 47
- Симфоническая опера 51
- Радости и огорчения 55
- Рассказать о Советском Урале! 58
- Мысли о советском балете 61
- Вместе с композитором 67
- Преодолеть заколдованный круг 72
- Несколько слов о педагогах 74
- Ближе к современности 75
- Частные меры не помогут 79
- Шекспир и музыка 81
- Это звучало в шекспировском театре 85
- Еще раз о «Ромео» 89
- Поет Шапошников 92
- Письмо из Лондона 94
- «Сон в летнюю ночь» 96
- О моем великом соотечественнике 97
- Из отечественной музыкальной шекспирианы 98
- Евгения Мравина 100
- Из воспоминаний 106
- Страничка мемуаров 107
- «Игрок» С. Прокофьева 108
- Гилельс играет в Свердловске 110
- Комитасовцы 111
- Вокальные вечера 112
- Наш друг 115
- Чешский квартет 116
- Альтисты и арфисты 116
- Там, где учился Ленин 118
- Берлинский дневник 124
- «История музыки в иллюстрациях» 128
- Любимый народом 129
- «Катерина Измайлова» в Лондоне 130
- Африканская симфония 132
- «Говорящие барабаны» 139
- В секретариате Союза композиторов СССР: Одна цель, один путь 142
- Страницы живой истории 146
- Опера и время 148
- Наши юбиляры. В. И. Музалевский и Н. И. Платонов 151
- Хроника 153



