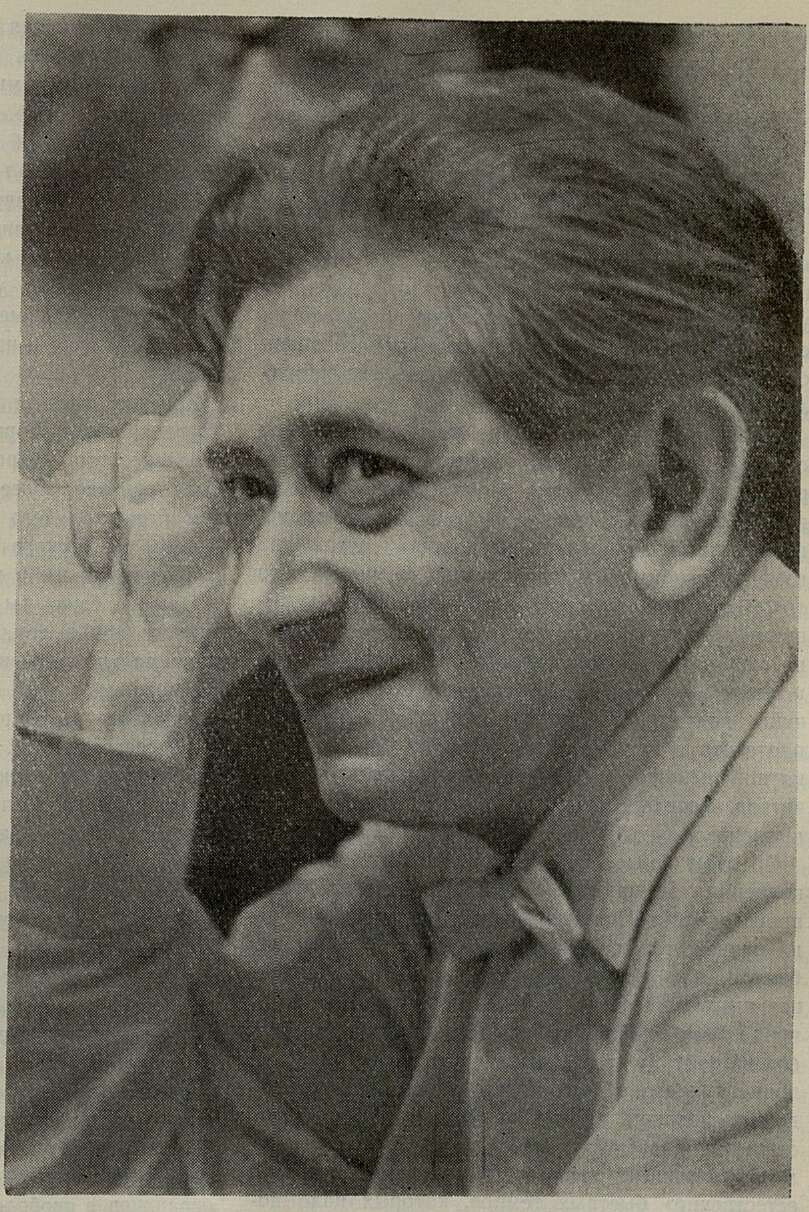
просил автора прослушать его (встреча состоялась у него на квартире, так как дома у Рахманинова не было двух роялей). Гольденвейзер слышал это сочинение в первом авторском исполнении и примерно, по памяти, придерживался тех темпов, в которых играл сам композитор. Перед приходом Рахманинова он решил все же сверить свое исполнение с проставленным в нотах метрономом; в результате в ряде мест пришлось изменить темповые соотношения. Многое при этом показалось пианисту не вполне убедительным, однако то было желание автора!
Наконец, пришел Рахманинов и сыграл с Гольденвейзером свой концерт. Одобрив в целом исполнение, он попросил, однако, изменить темпы некоторых эпизодов именно так, как чувствовал ранее сам Гольденвейзер. Когда же последний обратил внимание композитора на несоответствие между его словами и предписанным им же метрономом, Рахманинов был неприятно удивлен. После этого инцидента он в дальнейшем почти не делал метрономических указаний в своих произведениях.
Знаменательно, что Антон Рубинштейн никогда не проставлял метроном в своих сочинениях, но очень часто указывал в начале пьесы «основ-
ную метрическую долю, определяющую относительную скорость движения»1. Этот совет, не сковывая исполнителя абсолютной степенью физической быстроты, дает важное стержневое направление его мышлению.
Исполнительский темп — дело в высшей степени индивидуальное; темп нельзя «заказать», артист сам должен найти его. Если мы внимательно вслушаемся в исполнение одного и того же произведения несколькими крупными мастерами, то увидим нередко, что, выражая идею произведения с необычайной ясностью, глубиной и совершенством мысли, они играют в темпах, весьма отличных один от другого.
Однако индивидуализация темпа имеет свои границы, свои пределы, определяемые характером, содержанием, идеей произведения. «Известно, — замечает В. Стасов, — что в музыкальном исполнении от изменения движения совершенно изменяется смысл и физиономия сочинения до такой степени, что самую знакомую вещь услышишь точно что-то чужое, незнакомое»2. Исполнителю ни на минуту нельзя забывать, что его искусство — искусство актера, оратора, рассказчика; поэтому его музыкальная речь должна протекать в таком темпе, который сделает понятной и доступной слушателям мысль композитора, передаст ее с предельной ясностью и выразительностью.
Об этом более всего следует помнить при исполнении так называемых «быстрых» эпизодов и произведений. Пианисту почти всегда, особенно на первых порах, хочется играть их чрезвычайно быстро, как можно быстрее; динамика, страстная импульсивность музыки, авторские указания — предположим, Presto, Presto possibile — толкают его на этот путь; не имея достаточно ясного художественного образа произведения, пианист отдается целиком во власть своих моторных инстинктов, идет у них на поводу. Но требует ли художественный замысел композитора «сверхъестественно» быстрых темпов, которых надо добиваться «сверхъестественной» тренировкой своих пальцев? Музыкальная мысль развивается во времени; для того, чтобы быть правильно воспринятой и понятой, она не должна быть передана чересчур быстро. Можно сказать, что чем значительнее, содержательнее и выразительнее хочет артист сделать свое исполнение, тем относительно сдержаннее должен быть взятый им темп1. Аналогичная картина получается, когда, желая убедительно, весомо и впечатляюще передать свою мысль, мы выражаем ее разреженной и медленной речью.
Бородин писал об игре Листа: «Вопреки всему, что я часто слышал о ней, меня поразила крайняя простота, трезвость, строгость исполнения; полнейшее отсутствие вычурности, аффектации и всего бьющего только на внешний эффект.
Темпы он берет умеренные, не гонит, не кипятится. Тем не менее силы, энергии, страсти, увлечения, огня — несмотря на его лета — бездна»2.
Конечно, следует учитывать, что Листу было 72 года, когда Бородин писал эти строки; но, вероятно, это мудрое и сдержанное исполнение было гораздо более глубоким и значительным, чем игра молодого Листа той эпохи, когда великого венгерского пианиста изображали среди поверженных им в прах и разбитых роялей!
Однако было бы ошибочным делать из сказанного тот вывод, что исполнитель в поисках максимально выразительной передачи смыслового содержания может бесконечно замедлять темп. Стремление к сдержанным темпам не должно быть безграничным. Предположим, например, что автор излагает свою музыкальную мысль в движении Allegro. Исполнитель, не выходя за пределы данного указания, может, как мы уже говорили, быть относительно свободным в выборе темпа для передачи этого Allegro; но границей в сторону замедленного исполнения у него всегда будет тот момент, когда темповые изменения приведут к качественному скачку, когда наступит перерыв постепенности и возникнет новое качество: вместо Allegro, скажем, Andante. А это произойдет неизбежно, если исполнитель предаст забвению основное указание автора, то есть если не будет соблюдена мера при выборе темпа. Тот же процесс происходит и в сторону убыстрения темпа. Следовательно, исполнитель ограничен в свободе выбора темпа той качественной характеристикой движения, которая дана композитором. Он свободен только внутри этого качества. Andante, например, при всех темповых исполнительских вариантах не должно терять качеств, присущих именно Andante («в ритме шага», «как бы шагая», «in gehender Bewegung», как говорил Бетховен), и не должно пре-
_________
1 К. Н. Игумнов. Примечание 3 на стр. 3 к первому тому «Избранных сочинений» А. Рубинштейна. Музгиз, М., 1945.
2 В. Стасов. «Мученица нашего времени». Избранные статьи о музыке. Л. — М., 1949, стр. 151.
1 Нам кажется, что композитор, сочиняя пассаж, по большей части подразумевает декламационное его «произнесение», несколько замедленное именно в тех местах, которые для исполнителя оказываются наиболее трудными.
2 А. Бородин. Письма. Вып. IV, М., 1950. стр. 19.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 5
- Теория отражения и музыка 7
- Певец Украины 16
- Композиторы Дагестана 21
- Выдающийся просветитель-музыкант 26
- Новое в гайдниане 32
- Необходимы радикальные изменения 34
- Внимание и взыскательность 37
- Встреча с Вагнером 40
- Большой сибирский 46
- Двое молодых 54
- Гости с Иртыша 58
- Служение музыке 63
- Поэтичность и строгость 68
- Три лауреата 70
- Первый лидский 73
- Заметки о мастерстве 74
- Знакомство с певцом 81
- Контрабасист-виртуоз 82
- Имени Обретенова 83
- Горячность чувств 84
- Играет Огдон 86
- «Кларион Концертс» 88
- Творческая убежденность 89
- Друзья из Англии 90
- Призвание 92
- Песни Мексики, Бразилии, Кубы 95
- Расширять музыкальный кругозор 98
- Опера в концертном исполнении 101
- Внимание: русская частушка! 104
- …И творчески выполнять 106
- Возродить былые традиции 110
- Музыка, общество, «авангард» 112
- Выдающийся мастер современности 117
- Композитор рассказывает 122
- Пять вечеров в итальянской опере 128
- Е. К. Тикоцкий 138
- Ю. Н. Тюлин 139
- Л. А. Энтелис 140
- С. Ю. Левик 141
- Решения партии — в жизнь! 143
- Городу и селу 144
- Будет песня ульяновцам! 145
- «Шакунтала» 145
- «Рябиновое ожерелье» 146
- Хорошее дело 147
- Это будет в шестьдесят четвертом! 148
- Сердечно поздравляем! 149
- В Институте искусств 150
- Первый Северо-Кавказский 152
- Артистические удачи 153
- Интервью с любителем музыки 154
- Юбиляры — гости москвичей 155
- К статье «В Институте искусств» 156
- 50 лет успеха 158
- Ю. Григоровичу 158
- Памяти ушедших. И. И. Туски, Г. П. Фельдман 159
- Указатель статей журнала «Советская музыка» за 1963 год 160



