(авторы — Э. Лазарев и В. Катанян) развивается от образа Слесаря (и отчасти Изобретателя, Парня) к образам Профессора и других людей будущего. Начинается же и завершается эта линия развития как бы большими арками — хоровыми прологом и эпилогом, представляющими собой по существу лирическое обобщение «от автора». Э. Лазареву, имеющему уже опыт в области сочинения музыки крупной формы, музыки большого, гражданского накала чувства, удалось в прологе и эпилоге создать яркие хоровые номера, придающие всему спектаклю стройность, завершенность («репризностью» формы эстетически «оправдывается» в деталях выписанная цепочка многочисленных мелких портретов и портретиков обывателей в «срединной» части оперы).
Хорошо звучит партитура, сделанная рукой, чуткой к острохарактерным краскам в оркестре. Рельефные, короткие музыкальные темы отлично «накладываются» на остроумные сценические характеристики действующих лиц.
Посмотрев спектакль «Клоп», мы невольно задумались: какой блестящий музыкально-сатирический кинофильм мог бы родиться на его основе!..
О достоинствах «Патетической оратории» Г. Свиридова много написано. Не будем повторяться, скажем лишь: и здесь театру удалось, идя от музыки, найти сценическое решение, которое представляется единственно верным, единственно возможным — так «дружно», так «заодно» с музыкой воздействует оно на зрительный зал.
Лаконизм, прямые динамические линии декоративного оформления, строго, точно продуманные световые контрасты, предельная простота костюмов. Умело используемые элементы кино: портрет Ильича — такого, каким его рисует поэт:
Рот открыт
в напряженной речи,
Усов щетинка
вздернулась ввысь,
В складках лба
зажата человечья,
В огромный лоб —
огромная мысль...

«Клоп».
Баян — В. Егудин, Присыпкин — Ю. Саков
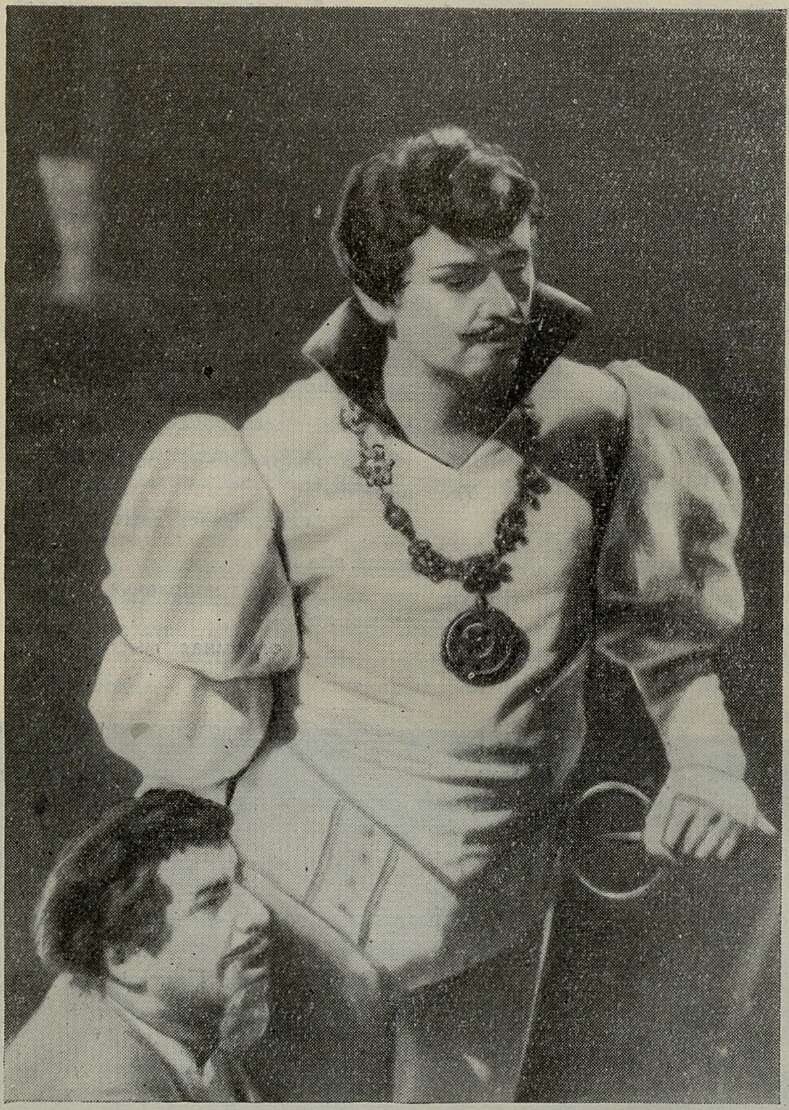
Никакого парада, никакой бутафорской слащавости. Портрет Ильича простой, сурово-будничный. Скульптурные группы — «барельефы», но и в них эффектная символичность одних, напряженно застывших фигур уравновешивается другими, словно только сейчас вышедшими из толпы созидающих, дерзающих, борющихся. Мы потому подробно останавливаемся на внешней, сценической культуре постановки, что в Новосибирском театре стали на правильную точку зрения: здесь понимают, что только строгий лаконизм оформления дает возможность полностью сосредоточить внимание на музыке, на действии.
...Спектакль развертывается от «картины» к «картине» (соответственно частям оратории) и по мере приближения к финалу в слушателях нарастает чувство гордой солидарности с тем, что выражают эта музыка и стихи Маяковского «Светить всегда, светить везде...». Хочется вновь и вновь переживать тот волнующий, радостный миг, когда звучание заключающего спектакль хора рождает такое ощущение, будто гимн светлому будущему исторгается и из твоей души, будто слова его повторяют как клятву и сидящие рядом с тобой люди...
Умение вызвать в зрителях активное сопереживание происходящего на сцене — вот что радует прежде всего в этом спектакле, созданном новосибирцами.
Свежесть, творческая самостоятельность в прочтении опер классического репертуара — качества, которые Новосибирский театр, пожалуй, лучше всего обнаруживает в постановках «Дон Жуана» и «Бориса Годунова».
Сто семьдесят шесть лет идет опера Моцарта на сценах всего мира — не так-то легко сделать на ее основе спектакль оригинальный, самобытный. И тем не менее цель эта достигнута.
Новосибирцы создали свою интерпретацию спектакля: их Дон Жуан не столько конкретное лицо, сколько символ юности, ее щедро и беспечно растрачиваемых жизненных сил. Восстановив финальный секстет (который нередко опускается), театр в значительной мере приближается к той трактовке «Дон Жуана», которую сформулировал еще А. Серов. Сводится она в самых общих чертах вот к чему: вся история Дон Жуана обычна, преходяща. И роль финального ансамбля как раз в том и заключена, чтобы показать зрителям, что после гибели этого «непутевого героя» все идет своим чередом, жизнь
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 5
- Теория отражения и музыка 7
- Певец Украины 16
- Композиторы Дагестана 21
- Выдающийся просветитель-музыкант 26
- Новое в гайдниане 32
- Необходимы радикальные изменения 34
- Внимание и взыскательность 37
- Встреча с Вагнером 40
- Большой сибирский 46
- Двое молодых 54
- Гости с Иртыша 58
- Служение музыке 63
- Поэтичность и строгость 68
- Три лауреата 70
- Первый лидский 73
- Заметки о мастерстве 74
- Знакомство с певцом 81
- Контрабасист-виртуоз 82
- Имени Обретенова 83
- Горячность чувств 84
- Играет Огдон 86
- «Кларион Концертс» 88
- Творческая убежденность 89
- Друзья из Англии 90
- Призвание 92
- Песни Мексики, Бразилии, Кубы 95
- Расширять музыкальный кругозор 98
- Опера в концертном исполнении 101
- Внимание: русская частушка! 104
- …И творчески выполнять 106
- Возродить былые традиции 110
- Музыка, общество, «авангард» 112
- Выдающийся мастер современности 117
- Композитор рассказывает 122
- Пять вечеров в итальянской опере 128
- Е. К. Тикоцкий 138
- Ю. Н. Тюлин 139
- Л. А. Энтелис 140
- С. Ю. Левик 141
- Решения партии — в жизнь! 143
- Городу и селу 144
- Будет песня ульяновцам! 145
- «Шакунтала» 145
- «Рябиновое ожерелье» 146
- Хорошее дело 147
- Это будет в шестьдесят четвертом! 148
- Сердечно поздравляем! 149
- В Институте искусств 150
- Первый Северо-Кавказский 152
- Артистические удачи 153
- Интервью с любителем музыки 154
- Юбиляры — гости москвичей 155
- К статье «В Институте искусств» 156
- 50 лет успеха 158
- Ю. Григоровичу 158
- Памяти ушедших. И. И. Туски, Г. П. Фельдман 159
- Указатель статей журнала «Советская музыка» за 1963 год 160



