Мы заговорили о Вагнере, его любимейшем композиторе. Он вдруг оживился как юноша, запел своим «ужасным» голосом, я сел за рояль, начал вспоминать разные места из «Гибели богов», «Зигфрида» и «Парсифаля». Потом, когда сели чай пить, он вздохнул и сказал: «Уф, опять меня музыкантом сделал». На самом деле было, наверное, наоборот: он меня «музыкантом сделал», мы оба забыли наши педагогические будни и ожили от вагнеровской музыки. Кстати, одно воспоминание: в Киеве, в годы гражданской войны, когда почти не бывало симфонических концертов, мы сыграли с Феликсом Михайловичем в зале консерватории в двух концертах в собственном переложении для двух фортепиано много фрагментов из «Кольца Нибелунга», а в другой раз — «Поэму экстаза» и «Прометея» Скрябина, причем «Прометей» был исполнен в программе дважды и в третий раз (!) «на бис».
Как-то (тоже в Киеве) я задал ему наивный вопрос: «Дядя, когда Вы чувствуете себя счастливым?» Последовал ответ: «Когда сижу на веранде, солнце светит и я смотрю партитуру “Тристана”». Наш общий приятель, П. П. Сувчинский, застал однажды дядю лежащим на диване, плачущим над партитурой «Руслана и Людмилы». Эта неистребимая любовь к музыке увлекала и вдохновляла учеников и была главной причиной их успехов. Многие московские его питомцы рассказывали мне, как он увлекал и воодушевлял их своим юношеским восторгом, как в пылу увлечения он иногда требовал почти невозможного, но все-таки не обескураживал их, ибо сами они были увлечены сверх меры и «ко всему готовы...». А ведь он был тогда уже старый и больной! Когда он был «во цвете лет», каким я его знал, — красивый, стройный, обаятельный, неуемный темперамент, азартность его натуры иногда доходили до предела; например, он переиграл себе правую руку неумеренной игрой в теннис, результатом чего явился его прелестный Этюд для левой руки. В молодости он так увлекался крокетом на даче у своей сестры, что, когда все ложились спать, он при лунном свете стучал молотком по шарам, приводя в изумление ночного сторожа...
В 1904 году дядя, Кароль Шимановский (мой кузен), мои родители, сестра и я были на вагнеровских представлениях в Байрейте. По утрам он чудесно играл нам Вагнера, это была великолепная подготовка к спектаклям! В театре он иногда так бурно выражал свои восторги, что вызывал кругом назидательное и недовольное шипение...
Незабываемые дни!
* * *
Молодость восприятия сопутствовала ему до последних дней. Воспитанный в заветах «Могучей кучки», обожавший Римского-Корсакова и после него Вагнера, он, однако, полностью принял и позднего Скрябина, а со временем и Прокофьева (к которому вначале относился сдержанно), и Дебюсси, Равеля. Он шел в ногу с лучшими представителями молодежи, с которой постоянно имел дело. Все действительно талантливое, как бы ново и неожиданно оно ни было, воспринималось им по достоинству, причем тут не было ни тени того соглашательства, которое свойственно многим равнодушным, охотно склоняющимся перед мнением большинства и веянием моды. Вкусы его были широки и разнообразны, наряду с «поздним» Скрябиным он чрезвычайно
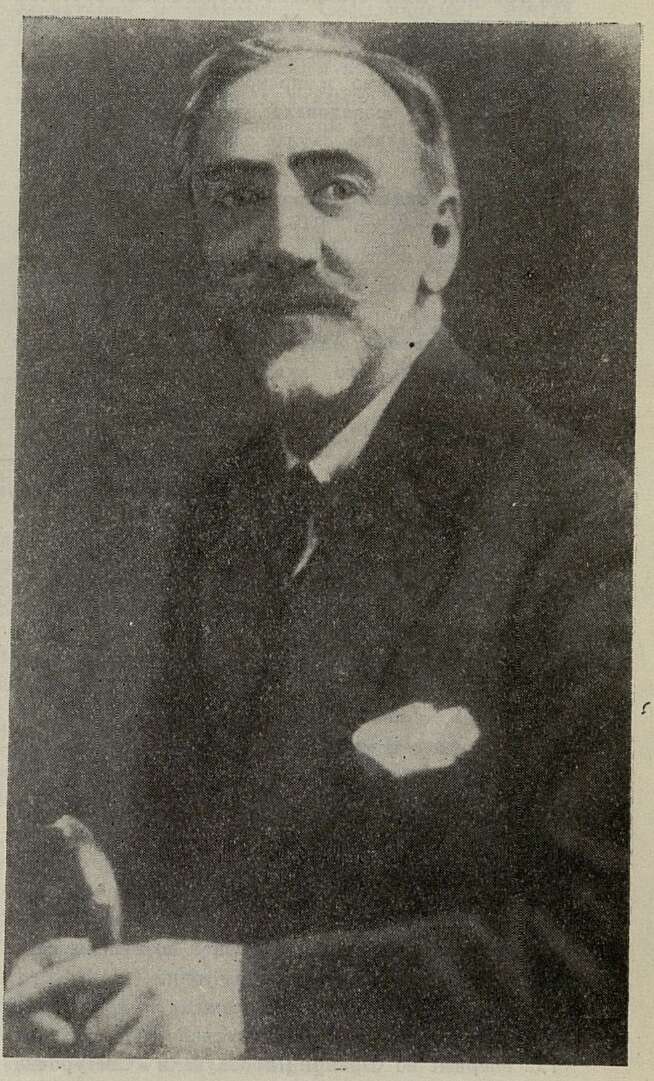
ценил Метнера и тогда еще молодого Ан. Александрова, некоторые произведения которого (например, Вторую, Третью и Четвертую сонаты) он сам разыгрывал с большим удовольствием и давал играть своим ученикам. Но в некоторых случаях он сохранял непримиримость, хотя и не до конца... Когда мне было 14–15 лет, я сильно увлекался Рихардом Штраусом и при наших встречах изводил дядю, играя отрывки из штраусовских симфонических поэм или напевая петушиным голосом какую-нибудь его тему; Феликс Михайлович недоуменно вскидывал брови и говорил: «Когда я был в твоем возрасте, мы напевали что-нибудь вроде первой темы из “Героической” Бетховена, а теперь...» — и тут он издавал какие-то странные звуки, долженствовавшие изображать музыку Р. Штрауса. Однако сам говорил мне, что после второго или третьего прослушивания «Тиля Уленшпигеля» он робко заметил Римскому-Корсакову: «Вы знаете, это все-таки талантливо и прекрасно инструментовано», — на что последовала уничтожающая отповедь: «Ну, в таком случае вы погибли для русской музыки!» Нелегко было совладать с кучкистской непримиримостью!
Как композитор Блуменфельд не открывал новых путей, но с большим достоинством и благородством писал музыку в пределах «узаконенного» и традиционного. Формально и в смысле инструментального изложения его произведения безупречны. К его лучшим сочинениям принадлежат симфония «Памяти дорогих усопших» с прекрасной, лиричной, широко певучей главной темой первой части, Струнный квартет, многие фортепианные мелочи (сюиты, этюды, прелюдии) и особенно некоторые романсы.
* * *
Музыкальный облик Феликса Михайловича удивительно гармонировал с чисто человеческими чертами его характера. То же благородство, то же великодушие, полное отсутствие мелочности, неприязнь к карьеризму и зазнайству, ненавязчивая скромность, естественная простота, доброжелательность и вежливость в обхождении с людьми, при всей непосредственности и искренности большое внутреннее достоинство, проглядывавшее во всем и заставлявшее людей как-то сразу уважать его. Самые обыкновенные люди поневоле выказывали при нем свои лучшие стороны, становились в общении с ним заметно симпатичнее, чем казались в повседневной жизненной сутолоке. Его педагогическому творчеству еще должно быть посвящено специальное исследование.
Память о таком человеке, исключительном по таланту и по благороднейшим душевным качествам, должна быть увековечена. Мы все, жившие рядом с ним, знали его и потому любили его; надо, чтобы о нем больше знало будущее поколение. Память о таких людях не должна умирать...
* * *
С. Шлифштейн
Еще находясь в классе у Блуменфельда, многие из нас знали о его близости к Римскому-Корсакову, о вечерах у Стасова, на которых, аккомпанируя самому Шаляпину, он заставлял слушать себя как достойного партнера великого артиста («...таких аккомпаниаторов я видел во всю свою жизнь только трех, — писал Стасов о Блуменфельде, — Антон Рубинштейн, Мусоргский и вот теперь — Феликс!!»); знали и о письме Скрябина, в котором он благодарил Феликса Михайловича за прекрасное, потрясшее всех исполнение Третьей («Божественной») симфонии (он был первым исполнителем ее в России), и о триумфах русской музыки в Париже весной 1908 года, когда впервые во Франции прозвучали «Снегурочка» Римского-Корсакова и «Борис» Мусоргского, которым дирижировал Блуменфельд (заглавную партию пел Шаляпин). Знали и гордились: вот какой наш Феликс!
Ему было шестьдесят лет, когда он появился в Московской консерватории. Мы, его ученики, в большинстве еще только вступали в свое двадцатилетие. (Написал и усумнился: неужели это было так давно? Сорок лет! Целая жизнь...) Сейчас ему было бы сто лет, столько, сколько Станиславскому. Для многих из нас он и был Станиславским. Главное, чему он учил, это любить музыку, любить и жить ею. Не каждому дано быть артистом. Но каждый в меру своих способностей может стать культурным музыкантом, научиться
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Песня о Ленине» 5
- Ленин слушает Бетховена 9
- Самая любимая песня 15
- Ответственность художника 17
- Доброго творческого пути! 19
- Секрет молодости 22
- О нашей профессии 31
- Упадок или обновление? 35
- Развитие традиций 41
- Третья симфония Бородина 47
- Письмо В. В. Стасова 53
- «На баррикады!» 64
- О последних сонатах Бетховена 71
- Заметки о подготовке музыкантов 78
- Памятка 80
- Из воспоминаний 82
- Из воспоминаний 83
- Из воспоминаний 86
- Ф. М. Блуменфельда 87
- Замечательный музыкант 90
- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94
- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95
- Вокальные вечера: Валентина Левко 96
- Вокальные вечера: Молодые певцы 96
- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97
- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98
- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100
- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102
- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102
- Камерный оркестр консерватории 103
- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104
- Аргентинская гитаристка 105
- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106
- На гастролях киевлян 107
- Все ли благополучно? 111
- Современная тема обязывает 117
- «Мир композитора» 119
- Критики и апологеты польского "авангарда" 124
- Варшавский Большой театр 130
- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133
- Новые оперы 134
- Впереди большая работа 136
- «Лулу» Альбана Берга 137
- Франсис Пуленк 138
- Наши друзья пишут о своих планах 141
- Современники о Чайковском 142
- Живой Рубинштейн 144
- Исследование об армянском музыканте 146
- Вышли из печати 147
- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148
- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149
- Образ вождя 151
- Новелла о Ленине 153
- Памяти павших, во имя живых! 155
- В Министерстве культуры СССР 155
- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156
- Встреча с Асафьевым 157
- Они приняты в Союз 158
- На трибуне - лекторы 158
- Премьеры 159
- После юбилея 159
- Старейшее училище Сибири 159
- А. Шелест — Клеопатра 160
- В Комиссии музыкальной критики 160
- От имени шефов 161
- Гости из Закарпатья 162
- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163
- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163
- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164



