де повисшие и разбухлые, идут осторожно и примериваясь; но все, дойдя до края, помахают немного вперед руками — и бултых в воду: кто три раза кувырнется в воде, плеская врозь ногами, кто прямо летит вниз, как палка, как свечка, иные совершают отчаянные антраша, как мужчины с испанскими усиками и бородками в балете, все на сто манеров, каждый по-своему, но от всех них получается картина чудесного оживления и жизни, кажется, слышишь шум, гам, крики и вскрики, разговоры, громкую болтовню насчет X. И тут же, каждые 1/2 секунды, всплеск воды от упавшего вниз тела, брызги летят врозь, водяная пыль носится над поверхностью, а между тем волны издалека все катятся да катятся, и скачут, и разбиваются, и рядами пены ударяют в край картины.
Это все чудесно, и мы аплодировали во все ладони, и сами тоже шумели и кричали.
Суббота, Парголово,
[1 июня 1896]
Так и не удалось мне кончить эти листики в Петербурге и послать с Андрюшей4. Во-первых, у меня вчера утром сильно загорелось и я написал большое письмо к Толстому и тотчас отослал к нему в «Ясную поляну»5 (да еще заказным, пожалуй, пропадет без того: вон ведь какие странности, Толстой писал мне свое письмо еще 22 мая, а оно дошло ко мне 29-го!!! Где же оно между тем побывало и полежало!), — я, может быть, ужо, если поспею, из этого письма расскажу несколько строк.
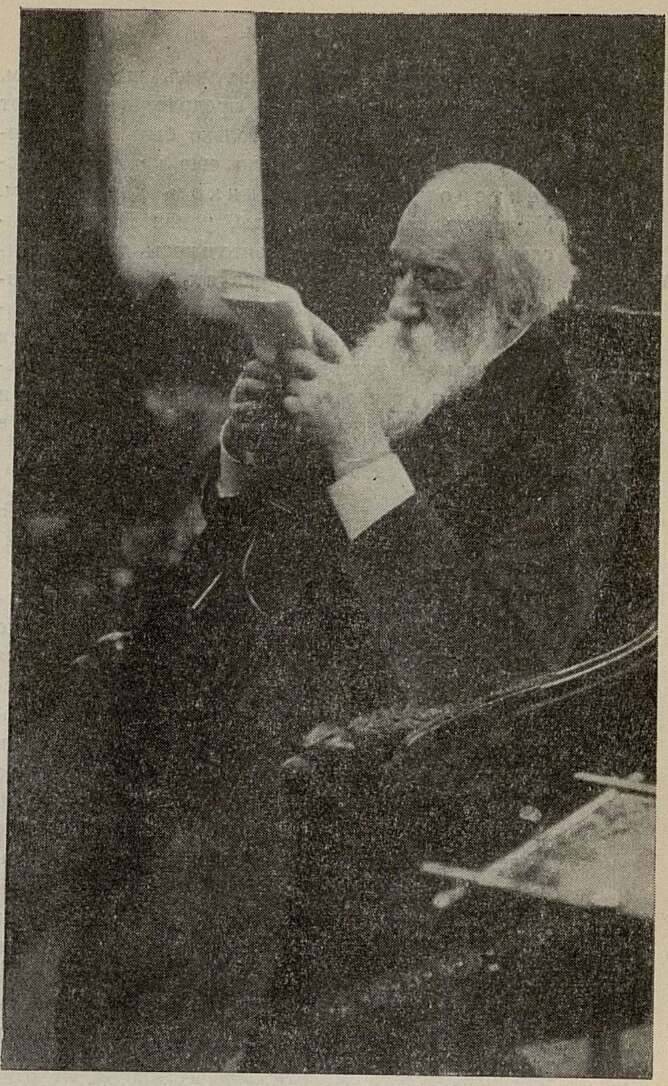
Вот это все одна статья, которая помешала мне раньше кончить это мое письмо. А потом, все эти дни, я очень много опять читал и в Петербурге и в Парголове. Первым делом Минский подарил мне свой новый перевод «Илиады», так как ему, видно, хотелось поблагодарить меня за то, что я ему все это время помогал ему разыскивать и выбирать из росписных греческих ваз и из фотографий с барельефов и статуй, что могло бы иллюстрировать его перевод, который он подаст Осенью в Академию наук «на премию»: оттого я и принялся вдруг снова читать «Илиаду», которую я хоть и меньше люблю, чем «Одиссею», а все-таки — это самый первый из первых сортов, даже иной раз выше Шекспира и Толстого. А потом еще, сейчас же тут подвернулись: Quinet «Revolution française» (из Надиных6 книг), которую я прежде никогда не читал, — а теперь в первый раз. И как почти все тут по-моему, и как мне нужно именно теперь — для чего, ты увидишь ниже, если только сегодня поспею написать. Ну, и одновременно с Quinet, еще «Жизнь Фарадея» Тиндаля (тоже из Надиных книг и тоже из 60-х годов!). Опять какая книга чудесная — опять мне как нарочно на руку, для моих нынешних дел и писаний, вот сию секунду, вот на этих же днях. Тиндаль пишет про своего покойного друга, да еще как обожаемого: «Ему предлагают пенсион, он отказывается принять от государства деньги, не связанные с определенною должностью, так как они могут стеснять его независимость. Ему предлагают титул баронета — он отказывается, говоря, что этот титул его ничему не научит. Ему предлагают президентство Королевского общества — и он отказывается, говоря, что, приняв эту должность, он не мог бы больше года ручаться за непорочность своих мыслей. Для него не существуют кумиры науки, авторитетов...» Каков чудный человек! И все-таки, невзирая на всю
великую душу, невзирая на весь широкий ум, почти вовсе уже лишенный предрассудков, — этот человек способен был не только быть «религиозным» человеком вообще, но еще каким-то диссентером, раскольником английским. Удивительная игра природы, удивительная непоследовательность и несостоятельность даже у лучших из людей. Чего же ожидать от глупых, слабых, ординарных? Но этот пример личности Фарадея, вероятно, тоже однажды пойдет у меня впрок в моем тексте — как по части положительной, так и отрицательной. Ведь у меня сотни и тысячи персонажей промелькнут, может быть, в моем будущем тексте7.
Ну, однако, пора, после всех откладываний, оттягиваний и экскузаций, наконец, и за настоящий сюжет нынешнего письма приняться.
Я искал в своих коротеньких «Дневниках» моих путешествий и поездок, что у меня записано про мое первое пребывание в «Ясной поляне» в 1880 году (август). Но ничего не нашел. Может быть, и вправду тогда ровно ничего не записал. Но я хорошо помню тамошнее гощенье и скажу, что как ни хорош был тогда со мною Лев Великий и как мне ни хорошо было с ним, а все-таки на следующее же утро после моего приезда из Москвы у нас произошла с ним изрядная размолвка. Это было сначала по случаю «Отче наш», а потом и по случаю множества других вещей, с этим связанных. Не знаю, какая нелегкая меня дернула завести с ним такую речь. Какая нелепость, да и просто — какая гадость! Приехал в гости, в чужой дом, меня всячески ласкают и приветствуют и он сам, и жена, а я вдруг затянул такую песню, от которой его коробит и от которой ему тошно. Какая гадость!!!
Впрочем, и то правда, дело пошло так оттого, что накануне вечером, когда я ушел к нему в кабинет спать, разделся и лег на тот самый диван, на котором он (по его же рассказу собственному) родился, а теперь этот диван, зеленый, кожаный, наполовину был весь в клочьях, — вдруг постучались ко мне в дверь, и вошел тотчас — Лев Толстой, в одной рубашке и нижних белых панталонах — больше ничего на нем не было. Под мышкой он держал изрядно толстую тетрадь, писанную его рукой. Сначала он присел у письменного стола между окон (того самого, который нарисован и у Репина и у Гинцбурга и на котором он в деревне все свое пишет); присел и сказал мне: «Вот я хочу вам немножко прочитать из того, что теперь пишу. Хотите?» — Конечно, я отвечал, что «с восхищением». Но восхищения никакого для меня не произошло. Это были его замечания на Евангелие8 — та чепуха, скука и тошнота, которой я никогда не мог переносить, когда это потом было докончено до конца и гектографировано. Тут я это все слышал в первый раз, не знал, что дальше будет, и сначала было развесил уши, но очень скоро это чтение так мне надоело и так мне было даже противно, — и читал-то он монотонно и несносно, по-пасторски, да и сам-то сюжет так мне ни на полдвора не годится — ведь за все Евангелие-то я трех копеек не дам, — так я устал и сердился, что скоро и сам Толстой стал это, вероятно, подозревать. Все время я только молчал упорно, ни одного слова не спрашивал, не было у меня ни одобрений, ни порицаний, ни сомнений, я упорно молчал. Вот он сказал, закрывая толстую тетрадь свою: «Ну, на сегодня довольно. Вам спать надо, особливо после дороги. Да и мне тоже». И он ушел, пожав мне руку в постели и унося с собою одну из двух свечек — ему надо было идти по темным коридорам, все уже спали, и огонь был везде потушен.
На другое утро я еще лежал на диване и читал (по обыкновению своему), когда Толстой пришел ко мне, около 9 ч. утра, опять в одном только белье, но набросив на плечи старый потертый халат, весело поздоровался со мной и стал тут же умываться, по-иностранному, из лохани. При этом он сильно фыркал носом и ртом и даже весь раскраснелся, точь-в-точь Элиас представляет студента9, получившего приглашение на обед в гости и одевающегося и моющегося, сильно мотая головой. Я было предложил подавать ему воду из кувшина — не хочет. Мы говорили про то, про се, ни про что особенное, только он сказал, что после чая мы пойдем гулять по деревне и по леску. Я тотчас был готов и через несколько минут уже сидел в столовой с графиней, которая меня уже ждала. Мне дали отличного их деревенского молока, потому что я сказал, что предпочитаю его всем чаям и кофеям в мире. Тут же речь зашла о том, что как много на своем веку графиня Софья Андреевна переписывала мужниного. «Вы не знаете, — сказала она, — вот видите в той комнате, рядом — это моя комната — там стоит шкапчик красного дерева. Он весь набит рукописями Льва Николаевича. Он печатает лишь самую маленькую долю того, что пишет. Остальное — все у меня хранится10. Вот вы вчера вечером рассказывали про “Войну и мир” и как вы эту вещь любите. А знаете, ведь напечатана, я думаю, всего 1/7 часть того, что было им написано. Так вот и со всем остальным. И все это я переписывала бог знает сколько раз — себя никогда не жалела. Я тогда
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Песня о Ленине» 5
- Ленин слушает Бетховена 9
- Самая любимая песня 15
- Ответственность художника 17
- Доброго творческого пути! 19
- Секрет молодости 22
- О нашей профессии 31
- Упадок или обновление? 35
- Развитие традиций 41
- Третья симфония Бородина 47
- Письмо В. В. Стасова 53
- «На баррикады!» 64
- О последних сонатах Бетховена 71
- Заметки о подготовке музыкантов 78
- Памятка 80
- Из воспоминаний 82
- Из воспоминаний 83
- Из воспоминаний 86
- Ф. М. Блуменфельда 87
- Замечательный музыкант 90
- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94
- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95
- Вокальные вечера: Валентина Левко 96
- Вокальные вечера: Молодые певцы 96
- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97
- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98
- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100
- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102
- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102
- Камерный оркестр консерватории 103
- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104
- Аргентинская гитаристка 105
- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106
- На гастролях киевлян 107
- Все ли благополучно? 111
- Современная тема обязывает 117
- «Мир композитора» 119
- Критики и апологеты польского "авангарда" 124
- Варшавский Большой театр 130
- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133
- Новые оперы 134
- Впереди большая работа 136
- «Лулу» Альбана Берга 137
- Франсис Пуленк 138
- Наши друзья пишут о своих планах 141
- Современники о Чайковском 142
- Живой Рубинштейн 144
- Исследование об армянском музыканте 146
- Вышли из печати 147
- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148
- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149
- Образ вождя 151
- Новелла о Ленине 153
- Памяти павших, во имя живых! 155
- В Министерстве культуры СССР 155
- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156
- Встреча с Асафьевым 157
- Они приняты в Союз 158
- На трибуне - лекторы 158
- Премьеры 159
- После юбилея 159
- Старейшее училище Сибири 159
- А. Шелест — Клеопатра 160
- В Комиссии музыкальной критики 160
- От имени шефов 161
- Гости из Закарпатья 162
- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163
- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163
- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164



