ки прогрессивных и реакционных жизненных сил, борьбу старого и нового... И почти всегда субъективно он оставался на редкость бесстрастным наблюдателем. Он не спешил вмешаться оружием своего искусства и стать на чью-либо из борющихся сторон. Почти никогда не возвышал своего голоса против реакции и милитаризма, в защиту мира и демократии. Он всегда делал вид, что все это его не интересует, что искусство его вне борьбы, вне политики, оно служит только красоте, которая в общем ничего не имеет общего ни с правдой жизни, ни с будничной «прозой» ее событий.
«Какое мне дело, вдохновлена ли 3-я симфония республиканцем Бонапартом или императором Наполеоном. В счет идет только музыка! ...Таков Бетховен. Его подлинное величие коренится в высоком качестве звуковой сущности его музыки, а не в природе его идей»1. Или: «живая иллюзия стоит больше, чем реальность, которая в действительности мертва...»2.
И таких авторских признаний, отрицающих идейные позиции в творчестве, у Стравинского можно найти сколько угодно!
Пожалуй, лучше, чем эти декларации, доказывает ту же мысль его отношение к сюжетной образности произведения и к смысловой стороне текста. Этим, в частности, можно объяснить пристрастие к созданию бессюжетных, неоклассицистических балетов типа «Аполлона Мусагета» или «Агона». О том же самом говорит нам и характер его работы над текстом «Свадебки» или «Царя Эдипа». Эти факты убеждают: Стравинский никогда не ратовал за тенденциозность развития художественных образов, скорее даже избегал в своих произведениях положений и эмоций, способных захватить сердце слушателя.
Что же касается текста, то смысловая сторона его всегда отступала на второй план перед фонической. «Текст становится исключительно звуковым материалом!» — замечает он с радостью в связи с работой над «Эдипом». И частые жалобы композитора на то, что его русские произведения так много теряют при исполнении на чужом языке, вызваны отнюдь не «потерями» в содержании их текста; Стравинского просто беспокоило искажение фонической стороны текста, темпа произнесения, находящегося в органической связи с музыкой.
Мы, разумеется, погрешили бы против истины, утверждая, что искусство Стравинского объективно было всегда глухим к общественной атмосфере своего времени и никогда не утверждало никаких идей.
Нельзя, например, отрицать эмоциональную близость тревожному предреволюционному времени экспрессивных образов «Весны священной» или эпохе второй мировой войны музыкальной атмосферы Симфонии в трех частях. Несомненно, что и многие русские произведения при всем их подчас рафинированном эстетстве не были объективно лишены национального чувства, интереса к искусству и быту своего народа. В гротесковых образах «Петрушки» и «Мавры» видна попытка обличить некоторые стороны мещанства, в «Истории солдата», «Байке» или опере «Похождения повесы» проступает определенная мораль (в нормах, естественно, буржуазного общества!), осуждающая человеческую жадность или распутство. Наконец, по мере усиления влияния церкви группа «псалмовых» сочинений все более отчетливо и настойчиво с каждым новым опусом утверждает нравственные нормы католической этики.
Поэтому декларации декларациями, а все же дело оказывается не в одной «звуковой сущности» произведения, как пытается уверить нас композитор. И даже в тех случаях, когда замысел произведения рождался у него не в результате преднамеренно задуманной идеи, а стимулировался, например, случайно возникшим в фантазии пластическим образом («Петрушка» — образ «игрушечного плясуна, сорвавшегося с цепи»; «Весна священная» — зрелище языческого священного ритуала, «История солдата» — цыганка, «явившаяся» во сне), все равно музыкальная идея несла какую-то большую или меньшую идейную нагрузку — то, что адресовал автор своим слушателям. Не случайно ведь и сам он признавался, что «художник испытывает повелительную потребность в том, чтобы другие разделили с ним ту радость, которую он испытывает...»1.
И все же творчество Стравинского представляет весьма яркий пример объективизма в искусстве. Композитор не старается активно внушать свою идею слушателю, заставить его полюбить своих героев или возбудить ненависть к злым, антигуманистическим силам.
Эстетическое начало в творчестве Стравинского далеко от событий реальной жизни, оно почти не связано с горячей борьбой старого и нового, развивающейся в ней. «Эстетическое чувство слушателя музыки подобно тому, что испытываешь, созерцая “игру архитектурных форм”» — так по-гансликиански рассуждает наш композитор. Поэтому он бежит от событий, героев современно-
_________
1 И. Стравинский. «Хроники моей жизни».
2 Там же.
1 И. Стравинский. «Хроники моей жизни».
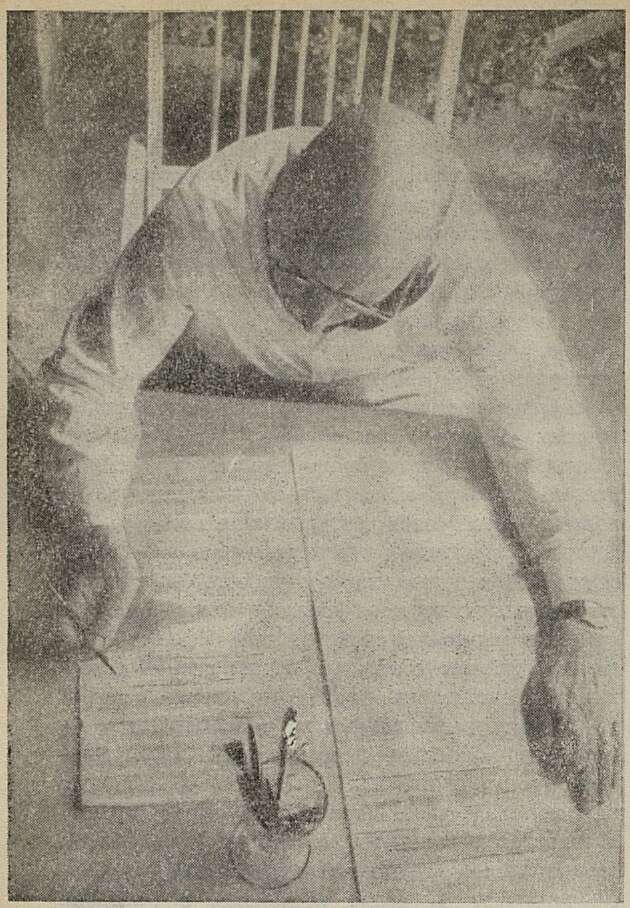
сти, и лишь иногда, помимо его воли, мощный ветер жизненных бурь врывается в его творчество.
Эти эстетические позиции «чистого» искусства, может быть, особенно наглядно проявляются в театральной эстетике Стравинского. Резко противопоставляя музыкальную драму и оперу, он предпочитает более традиционный жанр; но свои постоянные симпатии, которым он не изменял всю свою творческую жизнь, Стравинский отдает балету: «Классический балет по красоте своего стиля, аристократической строгости своих форм как нельзя лучше отвечает моей концепции искусства», — пишет он. «Пластический строгий образ, лишенный истинно земной плоти, воплощенный в условные формы классического танца» — таков его сценический идеал. Впрочем, в последние годы на смену условности пуантов пришла другая — «гимнастическая» графика «абстрактного» танца Баланчина, главного и любимого интерпретатора его музыки.
Стравинский больше всего боится «произвола» исполнителя, все равно — пианиста или актера. Искусство представления, точного выполнения авторских намерений — вот его идеал в театре! Герои должны быть лишены личных, индивидуальных, «романтических» переживаний. Поэтому такое большое значение приобрел в его театре средневековый принцип нонперсонификации, то есть сценического обезличивания исполнителя. И в «Свадебке», и в «Байке», и во многих других произведениях на сцене действуют мимические фигуры, а поют за них певцы, находящиеся в оркестре, а иногда и хор1.
В более поздних сочинениях, например в «Эдипе», Стравинский также настоятельно требует, чтобы герои оратории напоминали «ожившие статуи», а действие — «живые горельефы». В «Похождениях повесы» то же: меньше всего автор заинтересован в истинных переживаниях героев; нет, образы и сцены оперы должны напоминать ожившие гравюры Хогарта, и не больше... Поэтому-то он так любит пантомиму, отдавая ей все преимущества перед драмой.
Теми же интересами вызвано появление во многих случаях фигуры рассказчика-спикера: «История солдата», «Царь Эдип», «Вавилон», отчасти «Персефона». Чтец вносит в эти произведения эпическое, бесстрастное начало, как бы «амортизирующее» для зрителя-слушателя темперамент про исходящих событий.
Стравинский и против всяческих художественных, сценических «излишеств»: художник, по его мнению, «враг музыканта в театре, он отвлекает слушателя от музыки».
Эти театральные принципы тесным образом связаны и с эстетикой его симфонизма. Симфонических драм он избегает, больше всего боится бетховенских тематических конфликтов, программных образов, тенденциозности в утверждении идеи произведения. Поэтому он демонстративно отказывается от драматургических схем симфонизма XIX века, программного развития цикла, «сквозного» музыкального действия, сонатной структуры. Может быть, поэтому сам жанр симфонии занимает такое небольшое место в его творчестве, а некоторые произведения, названные симфониями (например, «Симфония духовых», «Симфония псалмов»), имеют фактически мало общего с характерными образцами этого жанра.
Эстетический объективизм Стравинского логически породил конструктивизм как важнейшую черту его музыкального мышления. «В музыке мы имеем дело с силой прежде всего конструктивной» или: «Феномен музыки нам дан с единствен-
_________
1 Эти тенденции были вызваны и общими неоклассицистическими принципами: «Сократ» Сати. «Царь Давид» Онеггера и некоторые другие сочинения были близки по форме.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Люди, пока не поздно! 5
- Искусство и мир 7
- Весна твоих побед 11
- Успех киргизского композитора 15
- Поэтичный талант 19
- Облик талантливого музыканта 23
- Заметки о стиле И. Стравинского 27
- Контрастно-составные формы 39
- Выпускники московской консерватории 44
- В Свердловской консерватории 46
- Не только любовь... 48
- Вторая попытка 53
- Хореографическая новелла 60
- Новая моцартовская постановка 64
- После конкурса 69
- Впечатления члена жюри 73
- Училище меняет адрес 76
- Альфред Корто 80
- Ф. Шаляпин в партиях Олоферна и Сальери 84
- Ставит И. С. Козловский 88
- Новое произведение 89
- Магда Тальяферро 90
- Встреча с Роберто Бенци 91
- Премьера «Триумфа Афродиты» Карла Орфа 92
- Первая русская консерватория 94
- Консерваторские годы 98
- Мои учителя 102
- Путевка в жизнь 104
- Моя alma mater 107
- Из архивных фондов 111
- Концертные «будни» Закавказья 116
- Голоса новой жизни 122
- Чудо-оркестр 131
- Старейший болгарский хор 133
- Талантливая балерина 135
- Говорит Дариус Мийо 136
- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Алан Буш 139
- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Марсель Рубин 141
- Книга о фортепианном творчестве Прокофьева 143
- История армянского музыкального театра 144
- Еще о книге Я. Гиршмана 146
- О кукушкиной музе и о Музлессоюзе 148
- Бывает и так... 149
- Один кружок Элвиса Пресли 150
- Из воспоминаний театрала 152
- Пиво и Бах 152
- У театральной афиши 153
- МГФ, 1962–1963 155
- Первые выпускники 156
- Братский паренек 158
- Письма из Братска 160
- Они поедут в Тулузу 160
- Оно Тэруко в Москве 161
- Юбилей А. Касьянова 162
- Праздник песни 163
- День эстрады 164
- «Гусарская баллада» 165
- Новое имя 166
- Гости столицы 167
- [Эта балерина, полная лиризма...] 167
- Памяти ушедших. А. Я. Колотилова 168
- Памяти ушедших. Ю. С. Никольский 168



