В. ВАНСЛОВ
АНТИЧНАЯ МЫСЛЬ О МУЗЫКЕ
Государственное музыкальное издательство приступило к выпуску серии «Памятники музыкально-эстетической мысли», в которой должны быть опубликованы важнейшие сочинения по музыкальной эстетике древности, средневековья и нового времени. Необходимость такой публикации, бесспорно, назрела, ибо многие классические сочинения прошлого по музыкальной эстетике никогда не издавались на русском языке. Выход серии поможет марксистской разработке истории эстетической мысли, исследованию проблем современной музыкальной эстетики.
В настоящее время издана первая книга задуманной серии, посвященная античной музыкальной эстетике1. Материал здесь расположен в историческом порядке. Вначале опубликованы извлечения из древнегреческой мифологии, затем следуют разделы, посвященные пифагорейцам, Платону и Аристотелю — крупнейшим школам античной эстетической мысли, и, наконец, раздел, освещающий эллинизм и сочинения более поздних авторов. В библиографии указаны важнейшие источники опубликованных текстов и основная литература. Комментарии даны в виде подстрочных примечаний. Все издание в целом выполнено на высоком научном уровне.
Помимо самих текстов античных писателей о музыке, значительный интерес представляет в книге вступительный очерк А. Лосева. Это самостоятельное исследование античной музыкальной эстетики, раскрывающее ее социальные корни, философские основы, связь с художественной практикой. В статье содержится немало нового в сравнении с тем, что было ранее у нас опубликовано по данным вопросам. Так, Лосев по существу впервые четко формулирует и последовательно проводит мысль о практическом назначении музыки в античную эпоху.
«В эпоху античности, — пишет Лосев, — еще не возникло напряженной изоляции человеческого субъекта, именно поэтому человек оказывается слишком тесно связанным с жизненным процессом и все свои переживания понимает по преимуществу жизненно и утилитарно... Удивительным образом совмещаются в античной эстетике созерцательность и утилитаризм, так резко противостоящие друг другу в новой и новейшей буржуазной эстетике» (стр. 109). И далее для пояснения этого положения Лосев проводит следующую аналогию: «Одежда имеет для человека, конечно, утилитарное, практическое значение. Она должна быть удобна и не должна мешать человеку в его жизненной практике. Но эта удобная и практически полезная одежда может быть как безобразной, так и красивой. Античная эстетика понимает красоту именно так, что она, с одной стороны, должна быть абсолютно полезна, утилитарна и производственна, а с другой стороны, настолько прекрасна, чтобы можно было любоваться ею, не учитывая ее утилитарности. Тут не должно быть таких конструктивных форм, которые не имели бы никакого самостоятельного эстетического значения. Но тут не должно быть также и таких декоративных форм, которые обладали бы только самостоятельной созерцательной значимостью и одновременно не служили бы самым обыкновенным утилитарным целям. Вот почему представители античной музыкальной эстетики одновременно твердят нам и о самостоятельной эстетической ценности музыкальных звуков, пассивно отражающих собою объективный распорядок вещей в мире, и о практически жизненном значении музыки, без которого и сама музыкальная красота теряет право на существование» (стр. 109–110).
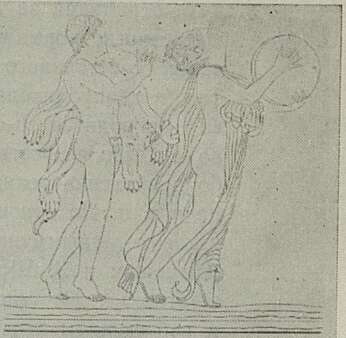
Античная музыкальная эстетика
Исходя из такого понимания античного эстетического сознания, Лосев сумел раскрыть многообразные воззрения музыкальной эстетики древних греков как единую исторически эволюционирующую систему, как последовательный и закономерный вывод из характера общественных отношений и художественной практики того времени.
Мы особо подчеркиваем правильность освещения этого вопроса в очерке Лосева, ибо в нашей
_________
1 Античная музыкальная эстетика. Вступительный очерк и собрание текстов профессора А. Ф. Лосева. Музгиз, М., 1960, 304 стр., тираж 7500 экз.
эстетике синкретичный характер древнего искусства и прямая связь его с различными сторонами общественной практики нередко трактуются в духе отрицания за искусством добуржуазных общественных формаций какого бы то ни было вообще собственного художественного значения. Так, в неопубликованной диссертации И. Астахова1 проводится мысль, что первобытное искусство не было искусством, а представляло собою либо проявление религии, магии, либо сторону труда и т. п. По отношению к античности и средневековью аналогичная мысль высказана Л. Пажитновым и Б. Шрагиным в сборнике «Вопросы эстетики»2. По мнению этих авторов, искусство в собственном смысле слова появляется лишь тогда, когда возникает противопоставление эстетической и практической деятельности, то есть в эпоху капитализма. До этого оно существует лишь как «прикладной» элемент самой жизни. Наконец, подобная же односторонность в трактовке практического назначения музыки проскальзывает и в предисловии редактора рецензируемой книги В. Шестакова, где утверждается, что «музыка в древнегреческом обществе еще не вычленяется в самостоятельный вид искусства из сферы общественной практики» (стр. 7). В такой формулировке заключается сразу несколько неточностей. Подчинение музыки гимнастике, религии, магии, медицине и т. п. вовсе не означает, что она не существует как самостоятельный вид искусства, отличный от других его видов — скульптуры, поэзии и т. д. В античном обществе мы находим развитую систему видов искусства, в числе которых находится и музыка. Недооценивается и то, что в самом античном обществе утилитарное понимание музыки не исключало эстетического наслаждения ею.
В освещении античной музыкальной эстетики в рецензируемом издании имеются и другие недостатки. Приводя все тексты, связанные с пифагорейским учением о музыке, подробно и основательно анализируя это учение, следовало бы показать не только мистический и формальный характер его, но и содержавшееся в нем «рациональное зерно». Мы имеем в виду квинтовую связь тонов, впервые познанную пифагорейцами в качестве основной закономерности высотной организации звуков. Известно, что эта связь лежит и в основе современной теории ладообразования.
Жаль также, что в книге не придано должного значения известным спорам между Аристоксеном и пифагорейцами по поводу консонантности терции. В этих спорах отразились ведь принципиально разные эстетические позиции: противоположность умозрительного и слухового подхода к музыке.
В целом книга «Античная музыкальная эстетика» — полезное и ценное издание. Оно окажет существенную помощь нашим эстетикам и историкам музыки.
_________
1 Происхождение искусства. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Рукопись.
2 Сб. «Вопросы эстетики». «Искусство», 1959, вып. 3.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Чтобы счастье встречалось с нами… 5
- В стремительном движении вперед 9
- Гаджи Керим летит на Луну 12
- Балет-песня 15
- Многообещающее начало 18
- Из киевского дневника 22
- У молдавских композиторов 28
- В Таджикистане 30
- С трибуны Третьего Всесоюзного съезда композиторов 31
- Выступления зарубежных гостей 46
- Дело сложное и важное 50
- Спор продолжается 53
- Мнение бакинских педагогов 55
- Жизненность таланта 56
- На спектаклях Рижского театра 61
- Беречь наследие 69
- Говорят председатели, члены жюри, гости и участники конкурса 77
- Говорят участники конкурса 97
- Народный артист 99
- Кароль Липиньский и его русские связи 108
- Есть причины для беспокойства 112
- Чего ждет молодежь 118
- В поисках нового 120
- Письмо из Таджикистана 122
- Открытое письмо редакционной коллегии газеты «Комсомольская правда» 123
- «Пражская весна» 126
- Музыкант-боец 130
- Проблемы Венской оперы 132
- Душа музыки 134
- Хроники моей жизни 135
- Исследование болгарской пианистки 142
- Книга о гитаре 143
- Античная мысль о музыке 145
- Как хочу, так и пою 147
- Моя «Одессея» 149
- Дружеский шарж 150
- Грабеж под музыку 150
- Говорят делегаты и гости Третьего Всесоюзного съезда композиторов 151
- Музыкальная эмблема мира 154
- Нерушимая дружба 155
- Еще раз о пропаганде 155
- Подарок москвичам 156
- Орловские энтузиасты 157
- Семинар молодых музыковедов 157
- Наш друг Владимир Фере 158
- «Будем учиться дальше» 160
- Большой театр — «Ла Скала» 160
- «Моцарт и Сальери», 1962 161
- Эстонские премьеры 162
- Одесский театр музыкальной комедии 163
- Декада народных театров 164
- В гостях у редакции 165
- Памяти ушедших. С. А. Заранек 166
- Памяти ушедших. А. Н. Аксенов 166



