меньшую роль, чем в драме. Разница только в том, что в опере владеть ею нужно более искусно.
Не случайно Штоколова искренне интересует секрет долголетия творческой жизни и устойчивость исполнительских трактовок коронных вещей таких певцов, как Козловский и Лемешев. Казалось бы, странно: бас и вдруг вслушивается в пение теноров. А ему это очень важно, так как в самом содержании их искусства он находит неисчерпаемый запас художественных впечатлений.
Сейчас Штоколов стремится к тому, чтобы наиболее полно слить в своем пении красоту звука с интонационной выразительностью.
Но в нем живет художник, и поэтому его творческие цели всегда будут обгонять его достижения. Нельзя только забывать, что сама интенсивность артистических задач и укрупнение их зависят во многом от театра.
Дело не в том, чтобы певца поставили в какие-то особые условия (тем более, что он умеет создавать их сам, стоит сослаться хотя бы на его работу с замечательным характерным актером и режиссером А. Соколовым), а прежде всего в репертуаре. Кстати сказать, не в пример балету, о постановках которого можно спорить, но нельзя не признать, что поиски нового в нем достаточно активны, опера Кировского театра обогащает свой репертуар значительно медленнее. А «конкуренция» с Малеготом, кажется, не идет на пользу ни тому, ни другому коллективу. Между тем почему бы не возродить хотя бы существовавшую ранее традицию обмена творческими силами? И почему бы Штоколову не спеть Кутузова в «Войне и мире» Прокофьева или Додона в «Золотом петушке» Римского-Корсакова. Наверное, от этого выиграли бы обе стороны. Конечно, интересно было бы услышать Штоколова и в «Патетической оратории». Какими, может быть, неожиданными красками засверкало бы монументальное творение Свиридова.
Штоколов еще слишком молод, чтобы можно было сказать, что он находится в расцвете сил. Это еще впереди. Но насколько его артистический расцвет будет ярким и продолжительным, зависит не только от требовательной строгости к себе артиста (истинный талант эта требовательность никогда не оставляет), но и от тех творческих задач, которые последовательно будет ставить перед ним театр.
* * *
Е. Рацер
Дорогой исканий
Впервые москвичи познакомились с дирижером Г. Проваторовым на премьере оперы А. Спадавеккиа «Овод» в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Было это в 1961 году, но многое очень живо помнится и сейчас. И прежде всего — лаконичное вступление к опере, карнавальные танцы, где особенно отчетливо проявились характерные черты творческого облика дирижера. «Овод» начинается с тяжелых, мрачных «аккордов Ватикана», всего несколько тактов, но в исполнении их сразу же почувствовалась целеустремленная воля, масштабность мышления, ощущение трагической атмосферы действия.
Снова слушая Проваторова в нынешнем сезоне, теперь уже в четырех столь различных спектаклях, как «Овод», «Евгений Онегин», «Семья Тараса» и «Прекрасная Елена»1, убеждаешься, что первые впечатления не были обманчивы.
Перед нами дирижер не по «занимаемой должности», а по сущности его дарования. Он обладает яркой исполнительской индивидуальностью, открытым темпераментом, своим слышанием музыки. Его привлекают драматические коллизии, большие события, большие чувства. И чисто дирижерские качества Проваторова раскрываются в массовых сценах более полно и интересно, чем в камерных. Думается, его сфера — это Псковская вольница, Половецкий стан, сцена под Кромами...
В 1956 году он окончил Московскую консерваторию по классу А. Гаука (несколько раньше как пианист по классу А. Гольденвейзера). Уже тогда главное место в его студенческом репертуаре занимали Вторая симфония Рахманинова, Шестая Чайковского. Тяготение к крупным музыкальным полотнам проявилось в годы самостоятельной работы в Харьковской и в особенности в Днепропетровской филармониях, где положение главного дирижера облегчало выбор про-
_________
1 Последние три не являются «собственными» работами дирижера и переданы ему в большей или меньшей степени «на ходу».
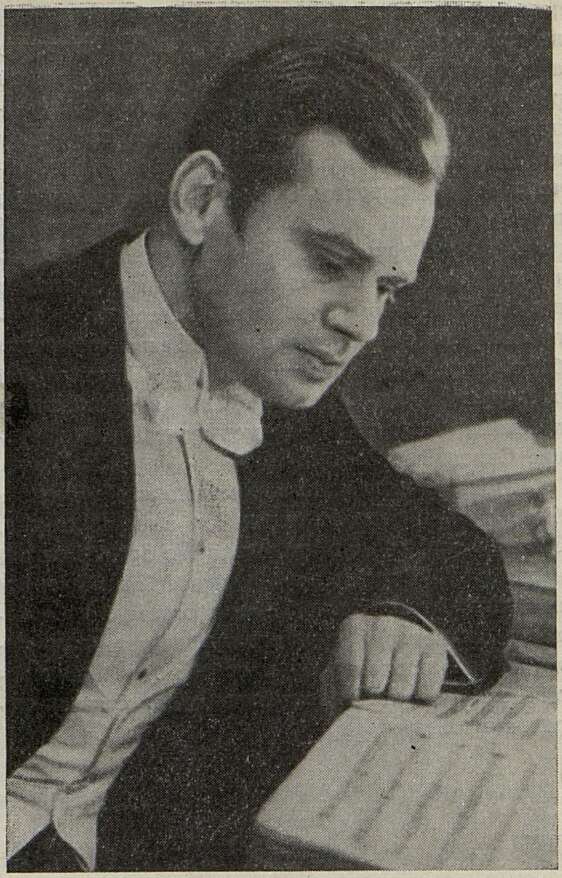
грамм. Он исполнял Девятую симфонию Бетховена, Траурно-триумфальную Берлиоза, Третью Рахманинова, Вторую Хачатуряна, Одиннадцатую Шостаковича, поставил ораторию «Мессия» Генделя, «Реквием» Моцарта, кантату «Александр Невский» С. Прокофьева.
Проваторов хорошо владеет музыкальной формой. И в пределах всего оперного спектакля, и в более мелких разделах все строится у него естественно просто, складно, логично. Запомнились в его исполнении сцены острых драматических столкновений: вторая картина в «Оводе», собрание «Молодой Италии», «Бал у Лариных», вторая и седьмая картины в «Семье Тараса». Дирижер ведет их как бы на одном дыхании, находит единый стержень драматургического развития. И, хотя в стремительном потоке музыки «Бала у Лариных» иные детали партитуры, детали динамических и темповых сопоставлений оказываются подчас не раскрытыми, все же картина эта — безусловная удача Проваторова.
Не столь убедительны некоторые сцены лирического плана, сцены-раздумья. Вот, например, начало картины в кабинете у Ривареса («Овод»). Интонации кларнетов, словно отсчитывающих секунды, уходящие в вечность, требуют, пожалуй, более медленного темпа. Тогда и «таборные причитания» Зитты возникнут более органично, и контраст с последующими сценами станет острее. Несколько торопливым и потому малозначительным показался монолог Онегина «И здесь мне скучно!», который следовало бы четко противопоставить «блеску и суете» полонеза и экосеза.
Но если по поводу этих критических замечаний можно спорить, то с тремя первыми картинами «Евгения Онегина» явно не ладилось. Это относится и к логике развития музыкального материала, и к контакту между дирижером и исполнителями, и к выбору темпов. Несмотря на то, что некоторые темпы были даже слишком подвижными (например, реприза хора «Девицы-красавицы»), в общем создавалось впечатление затянутости, однообразия.
Впрочем, необходимо оговориться. Конечно, сложной партитурой «Евгения Онегина» Проваторов еще не овладел в той мере, как, скажем, партитурой «Овода» (здесь многие интонации воплощены настолько выразительно, что приобретают характер музыкальной речи, возникающей непосредственно в данный момент). И тем не менее на счет дирижера следует отнести далеко не все. Целостность восприятия первых трех картин оперы чрезвычайно затрудняет традиционный в данном театре пропуск хора «Уж как по мосту, мосточку». Изъят важнейший контрастирующий устой. В результате архитектоника нарушается и лирические эпизоды неизбежно начинают казаться растянутыми и однообразными. И экспозиция образа Ольги, лишившись интонационно-смысловой основы, не контрастирует образу Татьяны. Еще больше удлиняется «лирический ряд». Это уже не вина дирижера, а его беда.
Не пора ли спокойно, без громких фраз обсудить и решить вопрос: что важнее сохранить? Форму, найденную Станиславским в том или ином конкретном случае для того или иного спектакля? Или завещанные им принципы и методы работы с актером над созданием художественного образа, которые так часто нарушаются, когда мы пытаемся в новых условиях, с новыми актерскими индивидуальностями оживить старый рисунок спектакля.
Разумеется, не легко найти время для репетиций, необходимых при передаче спектакля другому дирижеру. Но с такой своеобразной индивидуальностью, как у Проваторова, трудно «влезать в чужую шкуру». И даже после нескольких спектаклей надо при первой же возможности вер-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Тысячелетний Ленин» 5
- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9
- Образ Ленина в романсах 13
- После первого исполнения Четвертой 16
- Развивать национальную культуру 22
- О русских народных хорах 25
- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31
- Праздник музыки 34
- Заметки музыканта 37
- Смелее, ответственнее 40
- К изучению современной гармонии 43
- О национальном своеобразии гармонии 47
- Показывает Новосибирск 52
- Минская премьера 57
- Нет, это не «Лесная песня» 60
- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63
- К творческой истории «Камаринской» 67
- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70
- Талант и энергия 77
- Моя жизнь в музыке 78
- Пытливость таланта 83
- Дорогой исканий 89
- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91
- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96
- Песни наших дней 100
- Дирижирует Давид Ойстрах 101
- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103
- Новая соната Д. Кабалевского 104
- Первый концерт А. Масленникова 105
- Гости с Урала 105
- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106
- Радостный вечер 107
- Талантливый дирижер 107
- Вторая симфония Малера 109
- Волжский хор 109
- Студенческий коллектив 110
- Федор Дружинин 111
- Истмэнский оркестр в Москве 111
- Великолепный коллектив 113
- На концерте Саши Вечтомова 115
- Греческая пианистка 115
- Юлия Бучучану 116
- Квартет Парренен 117
- Колин Дэвис 118
- Из опыта Горьковской консерватории 120
- После выступления журнала 123
- Выдающийся художник 125
- Об эстетике К. Шимановского 129
- Европейское путешествие С. Рихтера 133
- Зденек Неедлы 137
- Новые произведения композиторов ГДР 138
- Звучит Двенадцатая 138
- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138
- Возрожденное искусство 139
- Письма Ф. Листа 140
- На сцене — Хиндемит 141
- Музыкальный кросс 141
- Новые книги 141
- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142
- Славный юбилей 143
- Интересное исследование 144
- За боевое искусство современности 147
- Поступили в продажу пластинки 149
- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150
- Успех Двенадцатой 151
- На родине Ильича 154
- Вести со смотра 156
- Говорят женщины-музыканты 156
- Поздравляем с 25-летием! 158
- Музыкант с Тянь-Шаня 159
- А. Фринберг — Пьер Безухов 160
- Премьеры 161
- Молодежь в «Пламени Парижа» 162
- Необходим обмен опытом 162
- «Оперу — не сметь!» 163
- «Пушкин» на сцене МГУ 164
- Один из лучших 164
- Беседы в редакции 165
- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166
- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166



