нию их можно разделить на три группы. Наиболее важны эпизоды, раскрывающие внутренний мир героев: монологи, адажио, трио. Они отличаются большой эмоциональной насыщенностью, широким развитием мелодики лирического типа. Восточные интонации и ритмы сочетаются в них с претворением рахманиновских традиций (особенно ощутимых в пышных, патетических кульминациях некоторых адажио) и использованием гармонического языка современной советской музыки1.
Такие эпизоды, как правило, даются в контрастном сопоставлении со сценами жанрового характера, рисующими среду — фон действия. В них более велика роль танцевальных ритмов народной азербайджанской музыки. Они отличаются большей простотой мелодики, гармонии и фактуры. Среди них есть и очень простые танцы (девушек, шутов, золота и т. п.), и многосложные.
Музыка балета включает в себя также фантастические эпизоды (колдовство Незнакомца в первом акте, видение Ферхада в третьем), основанные на необычной гармонии и колоритной инструментовке. В них ощутимы традиции Римского-Корсакова, преломленные сквозь призму таких произведений, как, например, «Семь красавиц» Кара Караева.
Раскрывая движение драмы, музыка Меликова дает и характеристику основных героев. Прозрачные и светлые темы сопутствуют образу Ширин, мечтательные и героические — Ферхаду, смятенные и драматические — Мехменэ-Бану. Не все в музыке ровно. Порою она несколько иллюстративна. Иногда связи с традициями слишком прямолинейны. Но в целом музыкальная драматургия воплощает эмоциональный накал драмы Хнкмета.
Центром спектакля является хореография, созданная Григоровичем. Она отличается образной выразительностью и движением страстей. Так, в сопоставлении четырех танцевальных дуэтов Ферхада и Ширин выражено развитие чувства героев.
Первый дуэт — это восторг юного чувства, трепетное и стыдливое признание в любви. Балетмейстер строит его без поддержек. Герои не касаются друг друга. В их движениях сквозит и чистота юности, и тяга друг к другу, и ощущение невозможности счастья (принцесса и бедный художник).
Во втором дуэте любовь уже соединила сердца молодых людей, и хореографическая лексика их адажио основана на сложных и необычайно острых по рисунку поддержках. Танец Ферхада и Ширин слитен, они все время вместе, рядом, он воплощает свежесть и волнение их чувств.
Третий небольшой дуэт (конец второго акта) — прощание: Ферхад идет пробивать гору. В танце выражена и горечь расставания, и сознание долга. Ширин «благословляет» юношу на подвиг. Все это адажио идет в обрамлении «дороги» — двух рядов мужского кордебалета, которые образуют как бы уходящую вдаль перспективу, которую замыкает изображение горы, высящейся, словно Голгофа.
В четвертом дуэте Ширин является Ферхаду как мечта, слившаяся в его воображении с мечтой о воде. Их танец сопровождается поэтичным прозрачным «аккомпанементом» кордебалета девушек, олицетворяющих струи исторгнутой из скалы воды. Здесь исчезают острые и необычные поддержки, обнажается классическая основа адажио, рисунок становится мягким, линии плавными. Нечто призрачное есть в этом последнем адажио — несбывшейся мечте о любви.
Помимо четырех адажио Ферхада и Ширин, в балете есть еще дуэт Ферхада и Мехменэ-Бану. При всем различии танцевальных сцен Ферхада и Ширин в их пластической характеристике преобладала хрупкость, трепетность взаимного лирического чувства (эти черты на сцене Новосибирского театра оперы и балета очень хорошо и тонко раскрыты Л. Крупениной и молодым артистом К. Брудновым). В дуэте же Ферхада и Мехменэ-Бану преобладают величие, гордость. Мечта Ферхада о Ширин была поэтична. Мечта Мех-менэ-Бану о Ферхаде полна страсти и силы. Ферхад видится царице равноправным ей правителем страны, он царь, достойный ее любви. И Ферхад в этом дуэте словно вырастает. Балетмейстер дает ему широкие и крупные движения, сильные поддержки. А сама Мехменэ-Бану (в исполнении Т. Зиминой) выступает как могучая личность, способная силой воли претворить в жизнь свою мечту.
Сопоставление пяти различных адажио спектакля говорит о незаурядном умении Григоровича мыслить хореографическими образами. Оно проявляется и в других эпизодах этого балета, в частности, в монологах Мехменэ-Бану.
Вот, например, Мехменэ-Бану, полная надежд на излечение сестры, предлагает Незнакомцу несметные богатства, даже корону. Но, оказывается, она должна пожертвовать своей красотой. Вид обезображенной женщины, вызванный чарами Не-
_________
1 А. Меликов — ученик Кара Караева. Его музыка преемственно связана с творчеством последнего, равно как и учитывает опыт балетов А. Хачатуряна и С. Прокофьева (одна из тем Ширин близка теме Джульетты-девочки).
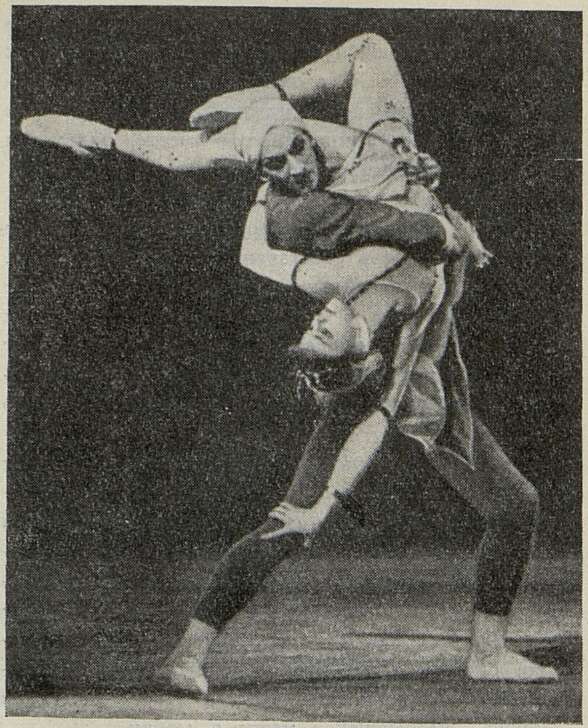
Второе адажио Ферхада и Ширин (Л. Крупенина и К. Бруднов)
знакомца, повергает ее в отчаяние, рождает бурный протест.
Танец ее выражает боль, борьбу противоречивых чувств, завершающуюся принятием мужественного решения. Последний раз Мехменэ-Бану касается лица, бровей, губ, словно прощаясь со своей красотой. Вздрагивает, представляя себе свое будущее, и поникает, покорно отдаваясь воле Незнакомца.
По этому же принципу построены и трио Мехменэ-Бану, Ферхада и Ширин, которые представляют собой обособленные внутренние монологи героев, произносимые как бы «про себя». В них раскрывается психологическая реакция на события. Состояние, отношение к происходящему выявляются словно крупным планом: гаснет свет, умолкает оркестр, и под аккомпанемент септета (струнные и флейта), тихо звучащего за кулисами, герои словно погружаются в захватившие их переживания. По танцевально-драматургическому значению эти трио могут быть сравнены с оперным ансамблем, выражающим реакцию действующих лиц на происшедшее событие (например, квинтет «Мне страшно» из «Пиковой дамы»).
И, наконец, от всех этих тройных монологов совершенно отлично трио Незнакомца, Ширин и Мехменэ-Бану. В нем задает тон чародей, а девушки, подчиняясь его воле, кружатся, словно завороженные, и в этом кружении постепенно оживает, возрождается Ширин и никнет, теряя свою красоту, Мехменэ-Бану. Гротескная фигура Незнакомца (Ю. Удинцев) таинственна и фантастична. Его движения словно диктуют жесты и повороты Мехменэ-Бану и Ширин.
Для хореографии Григоровича в этом балете типичен принцип сложной хореографической композиции, в которой выявляется драматическое содержание, психологическая глубина взаимоотношений.
Так, танцы юношей и девушек во втором и третьем актах выполняют роль своеобразной «портретной» обрисовки Ферхада и Ширин. Танцы юношей завершаются сольной вариацией Ферхада, а танцы девушек — сольной вариацией Ширин. И это не просто дружеское окружение героев. Кордебалет хореографически подготавливает «портретные» вариации Ферхада и Ширин, которые в свою очередь завершают хореографическую сцену. Между сольными и массовыми танцами создается линия преемственности и тематического развития.
Подобным хореографическим симфонизмом пронизан весь балет. Он отчетливо обнаруживается и в партии Мехменэ-Бану. В начале первого акта болезненно изломанные линии ее танца — отчаяния и горя — словно «продолжаются» в фигурах плакальщиц на втором плане, в скорбных, «падающих» линиях их воздетых рук, в поникших позах. В третьем же акте кордебалет — это уже не реальные девушки, окружающие Мехменэ-Бану, а некий эмоциональный «резонатор» ее переживаний. Костюмы артистов кордебалета в чем-то главном повторяют костюм Мехменэ-Бану: она словно отражается во множестве зеркал. И так же, но только еще более сложно отражаются в танце кордебалета ее движения, то полностью дублируясь, то повторяясь по принципу музыкальной имитации, то подхватываясь и развиваясь подобно развитию темы-зерна в музыке, то оттеняясь по принципу контраста. Все это создает необычайно гибкую, сложную и эмоционально насыщенную хореографическую ткань.
В «Легенде о любви» нет ни одного эпизода, который производил бы впечатление «вставного номера» и не «работал» бы на драматургию и идею спектакля. Выход и танец придворных создают ту атмосферу, напряженную и таинственную, для которой органичен и танец-страдание Мехменэ-Бану, и появление фантастического Незнакомца. Блестяще поставленный танец золота, которое то словно собирается в плотные слитки, то рас-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Тысячелетний Ленин» 5
- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9
- Образ Ленина в романсах 13
- После первого исполнения Четвертой 16
- Развивать национальную культуру 22
- О русских народных хорах 25
- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31
- Праздник музыки 34
- Заметки музыканта 37
- Смелее, ответственнее 40
- К изучению современной гармонии 43
- О национальном своеобразии гармонии 47
- Показывает Новосибирск 52
- Минская премьера 57
- Нет, это не «Лесная песня» 60
- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63
- К творческой истории «Камаринской» 67
- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70
- Талант и энергия 77
- Моя жизнь в музыке 78
- Пытливость таланта 83
- Дорогой исканий 89
- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91
- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96
- Песни наших дней 100
- Дирижирует Давид Ойстрах 101
- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103
- Новая соната Д. Кабалевского 104
- Первый концерт А. Масленникова 105
- Гости с Урала 105
- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106
- Радостный вечер 107
- Талантливый дирижер 107
- Вторая симфония Малера 109
- Волжский хор 109
- Студенческий коллектив 110
- Федор Дружинин 111
- Истмэнский оркестр в Москве 111
- Великолепный коллектив 113
- На концерте Саши Вечтомова 115
- Греческая пианистка 115
- Юлия Бучучану 116
- Квартет Парренен 117
- Колин Дэвис 118
- Из опыта Горьковской консерватории 120
- После выступления журнала 123
- Выдающийся художник 125
- Об эстетике К. Шимановского 129
- Европейское путешествие С. Рихтера 133
- Зденек Неедлы 137
- Новые произведения композиторов ГДР 138
- Звучит Двенадцатая 138
- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138
- Возрожденное искусство 139
- Письма Ф. Листа 140
- На сцене — Хиндемит 141
- Музыкальный кросс 141
- Новые книги 141
- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142
- Славный юбилей 143
- Интересное исследование 144
- За боевое искусство современности 147
- Поступили в продажу пластинки 149
- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150
- Успех Двенадцатой 151
- На родине Ильича 154
- Вести со смотра 156
- Говорят женщины-музыканты 156
- Поздравляем с 25-летием! 158
- Музыкант с Тянь-Шаня 159
- А. Фринберг — Пьер Безухов 160
- Премьеры 161
- Молодежь в «Пламени Парижа» 162
- Необходим обмен опытом 162
- «Оперу — не сметь!» 163
- «Пушкин» на сцене МГУ 164
- Один из лучших 164
- Беседы в редакции 165
- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166
- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166



