истории с высоты великих целей будущего. Таков метод О. Тактакишвили в опере «Миндия» с ее руководящей мыслью об очищающей и животворной силе борьбы с вековыми предрассудками или же метод Ш. Мшвелидзе в «Деснице великого мастера», где утверждается идея непреходящей ценности народного искусства. Обе эти оперы могут и должны пойти и на сценах театров других наших республик, в Москве, в Ленинграде. Есть все основания предполагать, что они разделили бы заслуженно счастливую судьбу балета А. Мачавариани «Отелло», перешагнувшего не только границы Грузии, но и рубежи Советского Союза. Однако, как ни велик успех «Отелло», как ни значителен новый замысел Мачавариани — опера на сюжет шекспировского «Гамлета», как ни бесспорны достоинства двух первых актов балета С. Цинцадзе «Демон», — насколько выше ценили бы мы творчество названных композиторов, если бы они создали произведения такой же силы воздействия на современные темы!
К сожалению, таких сочинений пока нет. Вот «Гантиади» И. Геджадзе — опера, повествующая о жизни советских шахтеров. Несмотря на несомненную одаренность и профессионализм композитора, его произведение страдает прежде всего схематичностью сюжета, шаблонностью сценических положений. В особенности уязвима вся экспозиция — первый акт. Не убеждает и кульминация в развитии интриги, когда диверсанты, поняв, что старый рабочий Бахва может их разоблачить, ранят его, но оставляют в живых1. Это неправдоподобно.
Более убедительна в драматургическом отношении развязка — третье действие. Здесь композитор действительно «распевает» тему. Он достигает большого динамического нарастания, объединяя сюжетную линию любви героев с другим фабульным мотивом, утверждающим красоту и силу коллективного труда и товарищеской солидарности рабочих-шахтеров.
Как видно, при отсутствии убедительной драматургии воздействие даже впечатляющей музыки неизбежно снижается. Об этом некоторые грузинские композиторы подчас забывают.
Приведу два примера. Д. Торадзе написал оперу «Невеста Севера» о любви Нины Чавчавадзе и Александра Грибоедова. Он сумел в этой личной теме увидеть общезначимую и высокую идею братского союза культуры двух народов. И эта опера при условии некоторой доработки могла бы стать достоянием репертуара многих республиканских театров. Однако композитор почему-то примирился с нарушениями драматургического целого, допущенными театром, — важнейшая для обрисовки образа героя сцена встречи Грибоедова с декабристами в спектакле изъята, а пролог оперы перенесен в последнюю картину спектакля.
С. Цинцадзе написал превосходную музыку балета «Демон». Его партитура в целом — пример яркого, своеобразного прочтения лермонтовской поэмы. Она овеяна романтическим пафосом и подлинным драматизмом, выразительна по оркестровому колориту, имеющему, кстати сказать, специфически «балетный», действенный характер. Зрители в первых двух актах с волнением следят за последовательным развитием музыкально-сценического действия. Однако в дальнейшем, склоняясь перед волей постановщика, композитор внезапно переключается на стиль, представляющий собою нечто среднее между традиционным «балетным» актом в спектакле Grand opéra прошлого века и современным мюзик-холльным обозрением. Тем самым он словно перечеркивает глубокое музыкальное содержание первых двух действий...
Среди прослушанных на съезде произведений примером убедительной современной трактовки темы может служить Вторая симфония А. Баланчивадзе, на мой взгляд одна из лучших советских симфоний, написанных за последние годы.
Что современно в этой симфонии? Прежде всего — ее концепция. Круг воплощенных в ней образов, образов живых и полнокровных, ассоциируется с переживаниями, мыслями и чувствами людей нашего времени. Несмотря на привлечение нескольких мелодических цитат из «фольклорного фонда»: кахетинской песенной лирики и гурийских хоров (а, может быть, именно в силу того, что они привлечены, но живо, творчески, отнюдь не как музейные экспонаты), симфония звучит народно и современно. Зерна песенного фольклора и органически слившиеся с ними оригинальные темы компо-
_________
1 Интересно, что почти на такой же сюжет в течение ряда лет писал оперу «Леся и Вересай» ленинградский композитор О. Чишко. Он почти довел свою работу до завершения. В опере было немало страниц талантливой музыки. И, однако, под воздействием строгой товарищеской критики, направленной против схематизма сценарного плана и надуманности конфликта, он отказался от своего замысла, прервал почти законченную работу и обратился к совсем новому произведению — опере «Иркутская история» (по пьесе А. Арбузова), ныне им уже законченной.
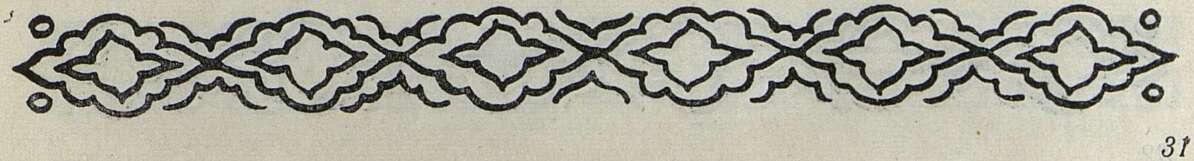
зитора образуют ярко индивидуальный стилистический комплекс.
Можно сказать, что симфония представляет собой обобщенное повествование о людях нашего времени. Если в первой части ощущается борьба нового со старым, а в третьей, центральной, она раскрывается с предельной конфликтностью, то в финале мы как бы встречаемся с некоей проекцией в будущее. Это не традиционный мажорный апофеоз, а просветленная мужественная лирика, воспевающая идеал, во имя которого велась и ведется борьба.
Продуманная идейная концепция симфонии предопределила и своеобразие ее структуры. Первая часть, написанная в сюитно-вариационной форме; большая кульминация во второй, медленной, части; сонатное allegro (по существу драматичное скерцо) — центр всего цикла и финал-эпилог — такова эта необычная планировка произведения.
Очень остро в грузинском музыкальном творчестве стоит вопрос о современности выразительных средств, или, иначе говоря, о музыкальном языке.
Конечно, здесь есть удачи, и их немало. Но, к сожалению, в подавляющем большинстве они опять же содержатся в произведениях, посвященных темам прошлого. Например, в «Миндии» О. Тактакишвили найдено новое жанровое качество на основе синтеза симфонической поэмности, ораториальности и «арийно-номерного» принципа построения действия; в «Прологе» А. Чимакадзе убеждает органический сплав речевой интонации, хорового и оркестрового звучания; в вокально-симфонической поэме О. Гордели оправдывает себя внедрение театральности в кантатно-ораториальный жанр. В творчестве грузинских авторов сосуществуют различные тенденции — от новаторокой до охранительной, от экспериментальной до традиционной. И характерно, что в иных случаях эти противоречивые тенденции проявляются в творчестве одного композитора и даже подчас в пределах одного произведения (например, в «Сказке» для фортепьяно с оркестром Р. Карухнишвили или же в Фантазии для фортепьяно с оркестром М. Давиташвили). Происходит бурный процесс становления нового современного национального стиля, основанного на обобщении творческого опыта крупнейших мастеров старшего поколения и новаторского переосмысления традиций грузинской народной музыки.
Первостепенное значение процесс этот имеет для молодежи, озабоченной «выбором пути». Съезд показал, что Грузия богата свежими композиторскими талантами, настойчиво пытающимися обогатить музыкально-выразительные средства. Однако они не всегда верно избирают источники такого обогащения. Характерно, например, обращение молодежи к стилевым приемам французского импрессионизма (в первой части Скрипичной сонаты талантливого В. Азарашвили, в первой части содержательного Струнного квартета Н. Васадзе), как к некоему «новому слову», в то время как новизна подобного рода приемов сейчас, в шестидесятых годах нашего века, более чем относительна. Думается, что в этом проявляется ограниченность слуховой практики. Некоторая часть молодежи, по-видимому, подчас недостаточно вдумчиво изучает и недостаточно самостоятельно преломляет традиции выдающихся советских композиторов, совсем мало знает творчество крупнейших зарубежных композиторов современности, таких, как Барток, Хиндемит, Онеггер, Стравинский, Бриттен. А знать это творчество надо хотя бы для того, чтобы иметь право критически относиться к нему и уметь подходить к явлениям современного западного искусства дифференцированно, отделяя прогрессивное от реакционного.
В СССР есть композиторы, с исключительной силой воплотившие в своем творчестве важнейшие приметы эпохи. Это прежде всего Прокофьев и Шостакович. Пройти мимо воздействия их музыки для ищущего современного композитора так же невозможно, как в свое время невозможно было пройти мимо воздействия Бетховена, Чайковского, Мусоргского или Вагнера. Однако воздействие воздействию рознь. Об этом много уже говорили, но, видно, надо сказать еще раз: очень ошибаются те, кто полагает, будто, копируя Шостаковича или Прокофьева, они приближаются к стилю эпохи или же вносят свой собственный вклад в этот стиль.
Возьмем, к примеру, «Праздничную увертюру» О. Тевторадзе. Это блестяще написанная партитура с ясным и светлым образным строем, сочным оркестровым колоритом, стремительным и легким развитием, изобретательной фактурой. Сочинение заслуживало бы величайших похвал, если бы до его появления не была уже создана «Праздничная увертюра» Шостаковича. Речь здесь идет, разумеется, не о прямом заимствовании, а о чрезмерной силе ассоциации, которую Тевторадзе не удалось преодолеть.
Пример совсем противоположный — Фортепьян-
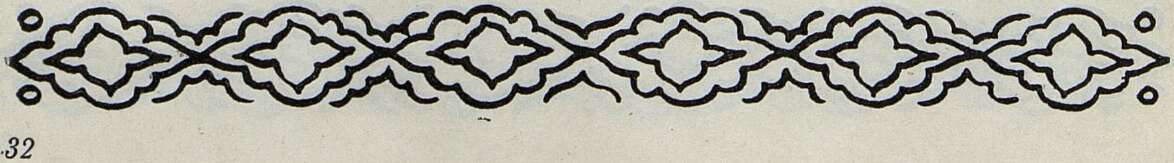
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Тысячелетний Ленин» 5
- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9
- Образ Ленина в романсах 13
- После первого исполнения Четвертой 16
- Развивать национальную культуру 22
- О русских народных хорах 25
- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31
- Праздник музыки 34
- Заметки музыканта 37
- Смелее, ответственнее 40
- К изучению современной гармонии 43
- О национальном своеобразии гармонии 47
- Показывает Новосибирск 52
- Минская премьера 57
- Нет, это не «Лесная песня» 60
- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63
- К творческой истории «Камаринской» 67
- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70
- Талант и энергия 77
- Моя жизнь в музыке 78
- Пытливость таланта 83
- Дорогой исканий 89
- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91
- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96
- Песни наших дней 100
- Дирижирует Давид Ойстрах 101
- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103
- Новая соната Д. Кабалевского 104
- Первый концерт А. Масленникова 105
- Гости с Урала 105
- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106
- Радостный вечер 107
- Талантливый дирижер 107
- Вторая симфония Малера 109
- Волжский хор 109
- Студенческий коллектив 110
- Федор Дружинин 111
- Истмэнский оркестр в Москве 111
- Великолепный коллектив 113
- На концерте Саши Вечтомова 115
- Греческая пианистка 115
- Юлия Бучучану 116
- Квартет Парренен 117
- Колин Дэвис 118
- Из опыта Горьковской консерватории 120
- После выступления журнала 123
- Выдающийся художник 125
- Об эстетике К. Шимановского 129
- Европейское путешествие С. Рихтера 133
- Зденек Неедлы 137
- Новые произведения композиторов ГДР 138
- Звучит Двенадцатая 138
- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138
- Возрожденное искусство 139
- Письма Ф. Листа 140
- На сцене — Хиндемит 141
- Музыкальный кросс 141
- Новые книги 141
- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142
- Славный юбилей 143
- Интересное исследование 144
- За боевое искусство современности 147
- Поступили в продажу пластинки 149
- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150
- Успех Двенадцатой 151
- На родине Ильича 154
- Вести со смотра 156
- Говорят женщины-музыканты 156
- Поздравляем с 25-летием! 158
- Музыкант с Тянь-Шаня 159
- А. Фринберг — Пьер Безухов 160
- Премьеры 161
- Молодежь в «Пламени Парижа» 162
- Необходим обмен опытом 162
- «Оперу — не сметь!» 163
- «Пушкин» на сцене МГУ 164
- Один из лучших 164
- Беседы в редакции 165
- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166
- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166



