Л. Гарута в кантате «Летит он!» (подзаголовок «12 апреля 1961 года») воспела подвиг Юрия Гагарина. В кантате много интересного. Жаль только, что гармонический язык порой очень напоминает зрелого Скрябина, а настойчивые секвенции иногда заменяют подлинное симфоническое развитие.
К этим трем произведениям добавим кантату О. Гравитиса «Планета бежит от тени». До сих пор молодой композитор ограничивался вокальными и инструментальными миниатюрами. Теперь он сделал хорошую заявку на крупную форму. В добрый путь!
Остальные кантаты были значительно ниже по уровню; сказалась или рутина, или творческая неопытность.
Особняком стоит замечательная вокально-симфоническая сюита М. Зариня «Незнайка в городе Солнца» (по Н. Носову) для чтеца, хора мальчиков, двух фортепьяно и малого симфонического оркестра. Сколько юмора, изобретательности и блеска в этой подлинно современной «детской» музыке, одинаково увлекательной для слушателей любого возраста! Думаю, что «Незнайке» предстоит радостная и долгая концертная жизнь.
В области программного симфонизма наиболее активной оказалась молодежь. Добротная поэма Г. Рамана «Памятник», посвященная героям 1905 года, написана не без влияния Одиннадцатой симфонии Шостаковича. Она радует своей серьезностью и хорошим профессиональным уровнем.
Благородную, но очень трудную задачу поставил перед собой в «Повести о нашем современнике» В. Каминский. Опасаясь «лакировки» действительности, он, однако, «ударился» в другую крайность, и его герой оказался чрезмерно рефлектирующим юношей, погруженным порой в довольно сумрачные раздумья. Разрабатывая эту тему в дальнейшем, композитор, надо думать, сумеет преодолеть свою тягу к мрачноватому драматизму и найдет нужные средства для полнокровного раскрытия образа «героя нашего времени».
Поэма Э. Гольдштейна, посвященная строителям Абакано-Тайшетской железной дороги, произвела неблагоприятное впечатление. Не будем наклеивать ярлыки и толковать о «формалистических вывертах», но мы услышали трески, шумы, шорохи и очень неясные сплетения «взаимно неконтрапунктирующих мелодических линий», как метко выразился Д. Шостакович. Все это в сочетании с громогласными «эффектами» солирующих ударных долженствовало рисовать образы отважных строителей. Однако фантазия композитора оказалась направленной в сторону от реальной жизни. Это тем более обидно, что на съезде прозвучал и Фортепьянный концерт Э. Гольдштейна — произведение, несомненно талантливое, без претензий на «оригинальность».
Своего рода «сенсацией» явилась симфоническая сюита А. Гринупа «Радость». Начавший самостоятельно работать всего несколько лет назад, молодой автор за неполные четыре года успел написать, не считая «мелочей», пять симфоний, Скрипичный концерт, Сюиту для флейты с оркестром, сюиту «Радость». Впечатление такое, что постепенно композитор привык фиксировать на нотной бумаге чуть ли не все, что ему приходит в голову. Чем же это объяснить? Ведь А. Гринуп — талантливый и хорошо обученный музыкант, отличный контрабасист (он постоянно работает концертмейстером в симфоническом оркестре). Вся беда, видимо, в том, что творческий процесс, такой обманчиво «легкий», носит у него почти стихийный характер. Отсюда недостаточная строгость в отборе материала, неумение развивать мысль, злоупотребление однообразными приемами: педалями, механической остинатностью. настойчиво (чтобы не сказать: назойливо) развертывающимися «цепными» гармоническими комплексами. Главное же, что беспокоит в творчестве молодого художника, — общий мрачный колорит его музыки (именно мрачный, а не трагический). Кульминацией в этом смысле явилась Пятая симфония, посвященная восстанию латышских крестьян в начале прошлого века (так называемое «Каугурское восстание»). В противовес этой симфонии небольшая пятичастная сюита «Радость» должна была, по мысли композитора, воплотить светлые образы нашей действительности. К сожалению, это ему не удалось. Надо по-товарищески строго сказать автору: талант обязывает намного ответственнее и строже относиться к себе; только тогда, когда перед Вами будет ясная и высокая цель — воплощение правды жизни во всей ее красоте и многообразии, Ваши произведения станут, по-настоящему впечатляющими.
Широко звучала на съезде хоровая музыка. Молодежи было чему поучиться у старших товарищей. Так, покорила слушателей своим темпераментом и подлинно современным звучанием хоро-
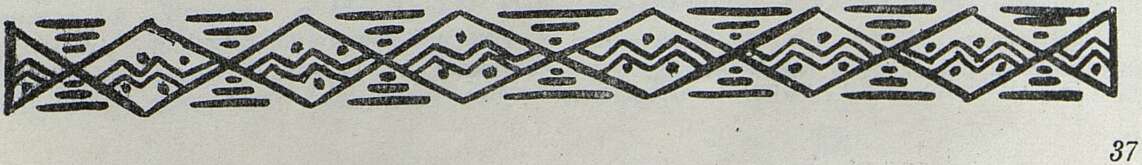
вая песня недавно скончавшегося старейшего латышского композитора Екаба Граубиня «Искра» на текст, состоящий всего из четырех слов: «Из искры возгорится пламя». С трудом верится, что автору этой мастерски написанной динамичной фуги было около 75 лет... Блестящее владение многообразными средствами хорового письма, неистощимую изобретательность и юмор продемонстрировал в своих «Этюдах для мужского хора» М. Заринь. Правда, молодежь тоже не отставала: отличные песни Алд. Калныня, Р. Калсона и некоторых других авторов порадовали разнообразием жанров — от незатейливой шутки-миниатюры и лирического пейзажа до крупных лиро-эпических песен. Однако тревожит пренебрежение многих композиторов к полифонии, склонность к гладкому аккордовому (иногда однообразно хоральному) изложению.
Мало было показано хороших массовых песен, отставание в этой области по-прежнему весьма ощутимо. Не спасают положения отдельные удачи Я. Озолиня и еще нескольких, увы, весьма немногих композиторов, пробующих свои силы в этом жанре.
Не намного лучше обстоит дело и с камерной музыкой. Кроме философски углубленного и в то же время очень остро звучащего Третьего квартета Я. Иванова и серьезной, хоть и несколько разностильной Второй сонаты для скрипки и фортепьяно Д. Кулькова, ничего подлинно интересного мы не услышали.
Но, пожалуй, слабее всего за последние годы достижения латышских авторов в области музыкального театра. После комической оперы М. Зариня «Зеленая мельница» (1958) и балета Р. Гринблата «Ригонда» (1959) не создано ни одного значительного произведения. А ведь творческие силы есть — мастера старшего поколения М. Заринь, Я. Иванов, А. Скултэ и многие молодые композиторы могли бы с успехом выступить на этом поприще. Остановка, как обычно, за либретто. Существенно тормозит создание национального оперно-балетного репертуара недостаточная заинтересованность и самих композиторов, и тех инстанций, от которых в наибольшей степени зависят судьбы будущих произведений. Все надеются, однако, что дело в самом ближайшем времени сдвинется с места...
Латышские композиторы и музыковеды, а также гости съезда (А. Хачатурян, Ю. Милютин, И. Гусин и другие) высказали немало деловых соображений, которые, несомненно, будут способствовать подъему музыкальной культуры Советской Латвии. Многое зависит и от работы нового Правления Союза композиторов. Во всяком случае, съезд послужит хорошим стимулом в творческой деятельности композиторов и музыковедов республики.

-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Тысячелетний Ленин» 5
- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9
- Образ Ленина в романсах 13
- После первого исполнения Четвертой 16
- Развивать национальную культуру 22
- О русских народных хорах 25
- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31
- Праздник музыки 34
- Заметки музыканта 37
- Смелее, ответственнее 40
- К изучению современной гармонии 43
- О национальном своеобразии гармонии 47
- Показывает Новосибирск 52
- Минская премьера 57
- Нет, это не «Лесная песня» 60
- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63
- К творческой истории «Камаринской» 67
- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70
- Талант и энергия 77
- Моя жизнь в музыке 78
- Пытливость таланта 83
- Дорогой исканий 89
- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91
- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96
- Песни наших дней 100
- Дирижирует Давид Ойстрах 101
- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103
- Новая соната Д. Кабалевского 104
- Первый концерт А. Масленникова 105
- Гости с Урала 105
- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106
- Радостный вечер 107
- Талантливый дирижер 107
- Вторая симфония Малера 109
- Волжский хор 109
- Студенческий коллектив 110
- Федор Дружинин 111
- Истмэнский оркестр в Москве 111
- Великолепный коллектив 113
- На концерте Саши Вечтомова 115
- Греческая пианистка 115
- Юлия Бучучану 116
- Квартет Парренен 117
- Колин Дэвис 118
- Из опыта Горьковской консерватории 120
- После выступления журнала 123
- Выдающийся художник 125
- Об эстетике К. Шимановского 129
- Европейское путешествие С. Рихтера 133
- Зденек Неедлы 137
- Новые произведения композиторов ГДР 138
- Звучит Двенадцатая 138
- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138
- Возрожденное искусство 139
- Письма Ф. Листа 140
- На сцене — Хиндемит 141
- Музыкальный кросс 141
- Новые книги 141
- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142
- Славный юбилей 143
- Интересное исследование 144
- За боевое искусство современности 147
- Поступили в продажу пластинки 149
- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150
- Успех Двенадцатой 151
- На родине Ильича 154
- Вести со смотра 156
- Говорят женщины-музыканты 156
- Поздравляем с 25-летием! 158
- Музыкант с Тянь-Шаня 159
- А. Фринберг — Пьер Безухов 160
- Премьеры 161
- Молодежь в «Пламени Парижа» 162
- Необходим обмен опытом 162
- «Оперу — не сметь!» 163
- «Пушкин» на сцене МГУ 164
- Один из лучших 164
- Беседы в редакции 165
- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166
- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166



