лицы. На юбилейном вечере, состоявшемся 13 ноября 1961 года в Большом зале консерватории, Государственный симфонический оркестр СССР под управлением юбиляра исполнил Первую и Девятую симфонии Бетховена. Слушатели, до отказа заполнившие зал, горячо приветствовали дирижера.
Учиться музыке Л. Гинзбург начал, когда ему исполнилось шесть лет, в Нижегородском музыкальном училище у Н. Полуэктовой-Шредер (ученицы К. Игумнова). Но вскоре занятия на фортепьяно перестали удовлетворять будущего дирижера. В 15 лет исполнилась его мечта — он стал артистом нижегородского симфонического оркестра (которым руководил потом опытный дирижер А. Литвинов), где играл на ударных инструментах, валторне и виолончели.
Окончив Московское Высшее Техническое училище, Л. Гинзбург не смог победить в себе страсть к музыке и стал заниматься в Московской консерватории. В поисках «правды» он пытливо знакомился со всеми теоретическими школами того времени под руководством профессоров Г. Катуара, Г. Конюса и Б. Яворского. Однобременно начались серьезные занятия дирижированием. М. Ипполитов-Иванов, Н. Малько, К. Сараджев и Н. Голованов в разное время были его учителями.
12 марта 1928 года в Большом зале консерватории состоялся выпускной концерт молодого дирижера, который исполнил с оркестром Большого театра Шестую симфонию Чайковского и «Петрушку» Стравинского.
В том же 1928 году молодой музыкант едет в Германию, где некоторое время занимается под руководством Лео Блеха, Отто Клемперера и Германа Шерхена.
Работая в оркестре Всесоюзного радио, затем в Государственном симфоническом оркестре СССР, выступая со многими симфоническими коллективами страны, Л. Гинзбург оттачивает свое мастерство, дарование его крепнет.
Исполнитель большого масштаба, особенно тяготеющий к крупным формам ораториального типа, блестящий знаток оркестра, Л. Гинзбург обладает необычайно острым чувством музыкальной формы, ярким темпераментом. В обширном и разнообразном репертуаре дирижера широко представлено творчество русских классиков (Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Глазунов). Наиболее ярко дарование Л. Гинзбурга раскрылось в исполнении западных классических произведений (Моцарт, Бетховен и, особенно, Брамс). Видное место в его исполнительской деятельности занимает творчество советских композиторов. Ему принадлежат первые исполнения многих произведений советской музыки. Немало сил и времени уделяет Л. Гинзбург работе с молодыми авторами, чьи сочинения он исполняет.
Особо надо отметить педагогические заслуги Л. Гинзбурга — одного из организаторов дирижерского образования в Советском Союзе. Его ученики работают во многих городах страны, большинство из них возглавляет оперные и симфонические коллективы.
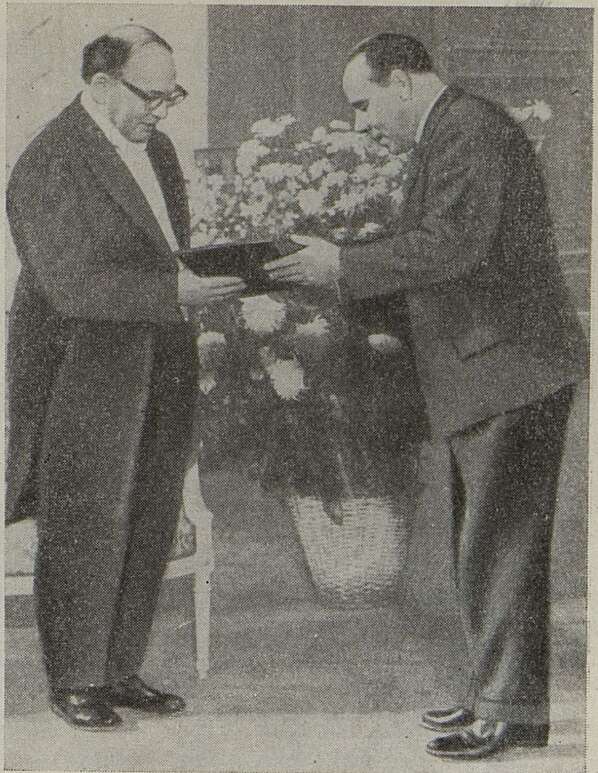
Л. Гинзбурга поздравляет директор Московской филармонии М. Белоцерковский
Достаточно назвать имена Михаила Малунцяна, Вероники Дударовой, Кямала Абдуллаева, Абрама Стасевича, Алексея Ковалева, Виктора Дубровского. (Автор этих строк также учился у Л. Гинзбурга). В его классе училось немало молодых дирижеров стран народной демократии.
Многообразна и музыкально-общественная деятельность Л. Гинзбурга. Он помог становлению симфонических коллективов Минска, Горького, Баку, участвовал в открытии Новосибирского театра оперы и балета. Опытный мастер постоянно помогает молодым симфоническим оркестрам, появляясь в них не только как гастролер, но и как консультант, педагог.
Л. Гинзбург — автор многих интересных статей по вопросам исполнительского искусства. И здесь он выступает активным борцом за высокий уровень советской симфонической и дирижерской культуры.
Константин Иванов
В концертных залах
СОВЕТСКАЯ ВИОЛОНЧЕЛЬНАЯ МУЗЫКА
Вот и развеян окончательно миф о скудости нашего виолончельного концертного репертуара! — таков первый вывод, который можно сделать, прослушав триаду концертов Мстислава Ростроповича (2, 5, 7 ноября, Малый зал консерватории). Сонаты М. Вайнберга, Ю. Левитина, Н. Мясковского, С. Прокофьева, Б. Чайковского, В. Шебалина, Д. Шостаковича; пьесы Е. Голубева, Л. Книппера, Ю. Шапорина — какое разнообразие имен и направлений, настроений и средств выражения! В трех программах прошла перед нами галерея музыкальных образов, — драматических, шутливых, лирических, философских, всегда интересных содержательных...
Играл Ростропович великолепно. Музыкант огромного дарования, проникший во все «тайны» виолончельного искусства, в своих творческих решениях он всегда смел и инициативен. И важнейшее для него — создание новых образов, исполнительское претворение новых сочинений. Быстрый отклик Ростроповича на все лучшее, что появляется в виолончельном репертуаре — отечественном или зарубежном, — это не дань моде и не погоня за новым ради нового, а искренний отклик всего существа художника, для которого современность — главное.
Говорят о современности музыкального произведения, о современной манере композиторского письма. Но в характеристиках музыкантов-исполнителей — за редким исключением — определение современности почему-то отсутствует. Словно артисту достаточно овладеть техническим мастерством, красивым звуком, штрихами, динамикой — и вот уже с равным успехом ему доступны Бетховен и Прокофьев, Шостакович и Боккерини. Наша советская эпоха, рождая свой стиль, свой круг образов, требует и новых, своих средств выражения. Исполнитель, не уловивший или отказывающийся от них во имя давно принятого и установленного, неминуемо останется за «барьером современности» — в высоком смысле этого слова, — даже если он будет каждый день играть совершенно новые, только что написанные произведения советских авторов. Конечно, немыслимо в нескольких словах раскрыть то новое, что присуще интерпретациям крупнейших наших исполнителей. Однако концерты Ростроповича не позволяют и умолчать об этом.
Глубина чувств, молниеносные «наплывы» настроений, эмоциональные подъемы и спады динамики, богатство красок и смелость их сопоставлений — вот некоторые из черт, характеризующих игру Ростроповича и придающих самобытность его трактовке сонат Д. Шостаковича (соч. 40), Ю. Левитина (соч. 49) или финала сонаты М. Вайнберга (соч. 63). Эти различные по замыслу произведения близки друг другу целеустремленностью развития, напряженностью образного содержания. С необычайной выразительностью играет Ростропович первую часть и Largo из сонаты Д. Шостаковича; неистово страстно в его исполнении скерцо. Смятением чувств насыщен финал сонаты Вайнберга, своеобразным «Dies irae» становится гневный диалог медленной части сонаты Ю. Левитина.
Настроением романтического эпоса проникнута интерпретация сонат С. Прокофьева (соч. 119) и В. Шебалина (№ 3, соч. 51). Однако Ростропович никогда не бывает «объективным», бесстрастным рассказчиком. Даже повествование о давно минувшем насыщено у артиста острым сегодняшним ощущением борьбы: он не летописец, а непосредственный участник событий. Ораторски приподнятый тон исполнения сонаты Прокофьева, обобщая большие мысли и чувства, позволяет создать образ, далеко перерастающий яркостью и силой рамки камерности.
Замечательное творческое достижение Ростроповича — чудесная, написанная на широком дыхании новая соната В. Шебалина. Драматичность Allegro, тревожное настроение которого органично сливается с последующим Vivace, задумчивое Andante, взволнованный финал артист трактует как единый, цельный по настрое-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- Верю партии 9
- Во имя человека 11
- Оправдаем доверие партии 15
- Работать по-новому 16
- Искусство — источник радости 18
- Бережно воспитывать молодежь 19
- Навстречу слушателю 22
- Герой-современник 27
- Композитор, дирижер, педагог 31
- Продолжим дискуссию 37
- Прокофьев и Шенберг 40
- Ново, талантливо, но… 45
- «Крутнява» в Москве 50
- Отход от завоеванного 55
- Театр на гастролях 61
- Радостное знакомство 63
- Гимн миру (из творческих замыслов Грига) 67
- Воспитание творческой самостоятельности 74
- Художник, гражданин 76
- Раскаты грома 82
- Из автобиографических записей 89
- Оган Дурян 99
- Лауреаты конкурса имени Энеску 101
- Славный юбилей 104
- Дирижер, педагог 104
- Советская виолончельная музыка 106
- Встречи с песней 107
- Новое в программах пианистов (М. Воскресенский) 110
- Людмила Филатова 110
- Контрабас — сольный инструмент 111
- Эдуард Грач 112
- На авторском вечере 112
- Павел Серебряков 113
- Премьера третьей симфонии Онеггера 114
- Город смелых, город дружных 115
- Двенадцать дней на Алтае 122
- Незабываемые дни 124
- В Хабаровске любят музыку 126
- У болгарских друзей 128
- Форум музыковедов 133
- Проблемы музыки Востока 140
- Пестрые страницы 145
- Чем бы это кончилось? 148
- Повесть о «Могучей кучке» 149
- Второе издание 150
- Поступили в продажу пластинки 152
- Хроника 153



