звана передать недомогание страдающего животом человека; такова сцена убийства Крыжнева — здесь в музыке почти натуралистически воспроизведены последние судороги удушенного. Нет и попытки вскрыть глубинный смысл события, высветить разные его стороны, поставить одно сюжетное положение в связь с другим. Композитор механически сцепляет материал — не больше. Совершенно справедливо замечание Б. Ярустовского1 о том, что в опере «Судьба человека» нет ясного, органичного развития, нет единства действия.
Правда, иногда композитор использует в музыке уже звучавший материал. Но как это сделано? Например, в единственном оркестровом антракте оперы (конец II акта), где композитор описывает побег Соколова из плена, слух неожиданно узнает знакомые мелодические построения и гармонии, бывшие в эпизоде с Крыжневым (см. клавир стр. 85 и стр. 149–152). Какой в этом смысл? Какая может быть связь между побегом Соколова из плена и давно уже отошедшим убийством предателя? Понять нельзя. Похоже, что композитор, не задумываясь, бездумно повторяет в различных сценах оперы любой вспомнившийся ему материал.
Вот Андрей Соколов встретил Ваню, говорит задумчиво, про себя: «Возьму его к себе в дети». На слове «дети» тихую, сдержанную музыку вдруг прерывает сильный оркестровый акцент, резкая гармония:

Ломаешь голову — почему? Зачем? Ищешь в клавире сходные места — они есть, но смысловой связи между ними нет никакой. На множестве других аналогичных примеров видишь, что на всем произведении лежит печать какой-то приблизительности, неглубокой, торопливой, хаотичной мысли.
В каждом художественном штрихе, большой и малой детали произведения всегда должен быть свой смысл, свое внутреннее оправдание. Когда этого нет, слушатель становится в тупик.
Лучшее, что есть в опере, заключено в отдельных страницах партии Андрея Соколова, которую композитор насытил русским песенным складом. Хороша песня Андрея и Ирины «В чистом поле», глубоко впечатляют монологи Андрея «Прости меня, земля родная» и «Вот и счастья уж нет». К удачным эпизодам оперы можно отнести хор пленных в конце I акта и дуэт Ирины и Анатолия «Воздух ясен и чист». Все эти эпизоды хороши как отдельные, самостоятельные номера, но в общей ткани произведения их роль менее значительна.
Есть свое обаяние в лейтмотиве (одном из немногих в опере) Андрея и Ирины, хотя сам по себе напев несколько тривиален; к тому же концовка буквально повторяет фразу песни «Из-за острова на стрежень» (на словах «...Стеньки Разина челны»). И снова, когда слышишь в различных эпизодах оперы знакомый мотив, ждешь новых его преобразований, развития. Однако напев всякий раз однообразно повторяется, топчется на месте.
Интонационная природа мелодического материала оперы в целом очень пестра, разнолика и не всегда выдержана в едином стилистическом ключе. В уже упомянутой статье Б. Ярустовский верно подметил, что в музыкальном портрете главного героя оперы элегичность довлеет над чувствами протеста и гнева, что в песне Зинки2 (кстати, ее роль в опере весьма двусмысленна) есть налет мелодраматизма, что характеристики большинства персонажей оперы мало индивидуализированы, однообразны. Кстати, на третьем спектакле оперы (16 октября) в сцене у Мюллера мы не услышали песенки фашистов, которую, как оказалось, И. Дзержинский взял из «Трехгрошевой оперы» Брехта-Вейля. Видимо, в театре поняли всю бестактность подобного цитирования, и мелодия была срочно заменена другой. Но вот ирония: песенки нет, а ее мелодические отголоски остались в оркестровых отыгрышах! Видимо, не успели «вычистить» цитату до конца.
До минимума сведена в опере роль хора. Те немногие эпизоды, какие есть, бедны по фактуре, не развиты (например, хор «Наступила пора лихая»). Композитор почти отказался от богатейших средств хоровой полифонии. Партии хора часто написаны непрактично, коряво, петь их трудно. Вот, к примеру, быстрая печальная фраза хора в одном из эпизодов воспоминаний (I акт):
Пример
_________
1 «Музыкальная жизнь», № 19, 1961 г.
2 Мы имеем в виду песню, написанную композитором для Большого театра и отсутствующую в клавире.
Или фраза из гимнического хора в сцене у рейхстага:
Пример
Ведь нужны два-три штриха, чтобы исправить эти явно корявые фразы, но композитору, видно, не до таких «мелочей».
Особо хотим сказать о Реквиеме. Эта песня с хором производит в спектакле двойственное впечатление. Сценическое ее решение величественно, монументально, а музыка — интимна, элегична, мелка. Между тем от музыки ждешь сильных эмоций, крупного штриха, обобщений... Как лирический напев, как вокальная строчка песня эта могла бы существовать. Но в спектакле песня явно проигрывает, плохо соотносится со сценическим образом.
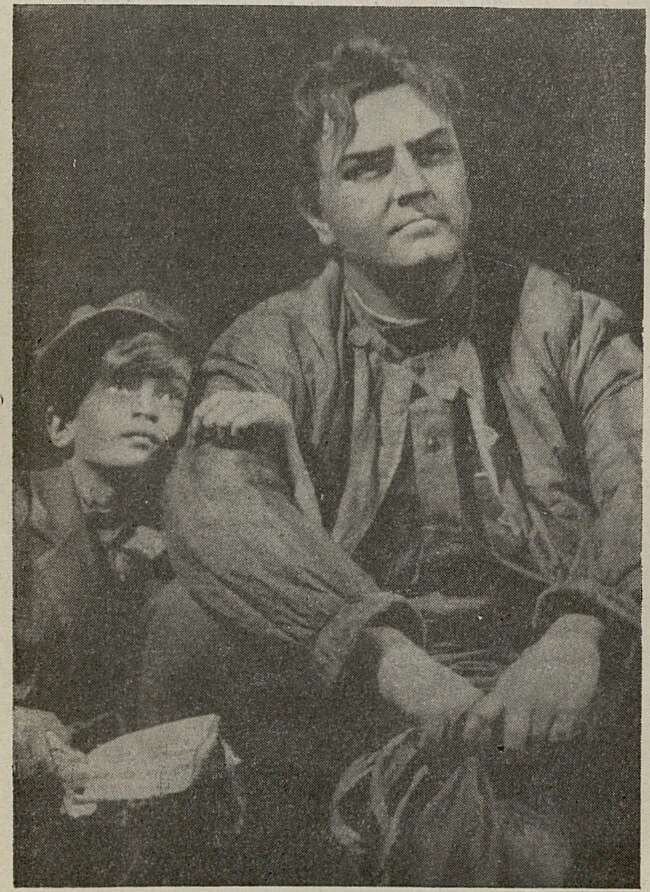
В роли Андрея Соколова — В. Нечипайло
Очень жаль, что композитор не смог сам оркестровать свою оперу. Этот существенный, исключительно важный этап творческой работы перешел в данном случае в руки дирижера спектакля1. А. Мелик-Пашаев оркестровал оперу грамотно, умело, точно. Огромный опыт оперного дирижера помог ему найти правильный звуковой баланс между сценой и оркестром. Сделанная им в процессе работы «подчистка» фактуры, голосоведения, гармонии несомненно пошла на пользу произведению2.
Что можно сказать о спектакле, поставленном на столь несовершенной музыкальной основе? Спектакль Большого театра несомненно выше, интереснее музыки И. Дзержинского. Несмотря на отдельные «самоповторы» (опера «Джалиль»), Б. Покровский показал добротную, слаженную режиссуру, во многом претворяющую приемы «чистого» драматического театра. Единственно, что вызывает возражение своей безвкусицей, это обыгрываемая под звуки радио (оркестр молчит!) пантомима-воспоминание Андрея Соколова о первой встрече с Ириной.
Интересную, ярко талантливую работу показал художник В. Рындин. Декорации спектакля живописны, образны. Напомним сцену в церкви, точкой вокзал, сцену возвращения Соколова, финал оперы и особенно реквием — едва ли не лучшее ка оперной сцене воплощение героико-трагической темы войны.
Среди исполнителей на первом месте должен быть поставлен В. Нечипайло, исполняющий заглавную партию. Талантливый артист показал незаурядные драматические способности, он хорошо поет и играет. Пожалуй, только не вполне удается ему произнесение прозаических фрагментов партии (а их немало). Речь артиста кажется деланой, неестественной.
Отметим также хорошее исполнение В. Клепацкой (Ирина), Г. Вишневской (Зинка), П. Лисициана (Песня о павшем бойце), А. Масленникова (Анатолий), Г. Шульпина (татарин).
*
Нельзя без тревоги думать о странно складывающейся творческой судьбе И. Дзержинского.
_________
1 В Ленинграде у Дзержинского появился еще один соавтор: концертмейстер театра И. Челищева заменила прозаический текст речитативами.
2 Наше внимание остановило мелькнувшее в прессе сообщение, что в опере «Судьба человека» впервые в Большом театре в оркестре зазвучал баян. Это неверно. Баяны звучали, и не так давно, в танцах оперы «Никита Вершинин» Дм. Кабалевского на сцене того же Большого театра.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Нет — войне!» 5
- Боевое оружие советских музыкантов 8
- Внимание музыкальной эстетике 13
- Первая опера В. Каппа 22
- Удача композитора 26
- Заметки о ленинградской песне 30
- Тексты еще не стихи 37
- Исполнитель и песня 41
- Недолгий путь 43
- Давайте разберемся! 47
- По большому счету 51
- Сила национальных традиций 56
- Из истории песен французской революции 65
- Рубинштейновские традиции и наша современность 76
- Лучше готовиться к соревнованиям 83
- Долг художника 87
- Из воспоминаний 88
- У нас в гостях Ода Слободская 99
- В концертных залах 101
- Письмо в редакцию 113
- На конгрессе в Будапеште 114
- Бела Барток в России 114
- «Святоплук» Э. Сухоня 121
- Юбилей Пражской консерватории 124
- О положении музыкантов в США 125
- Зальцбург на новом пути 129
- Пестрые страницы 131
- О пентатонике в татарской музыке 136
- Ценное пособие 139
- Исследование в многоголосии 140
- Хороший путеводитель 142
- Хроника 145
- Сатирикон 158
- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160



