представлениями о своей аудитории. Я подчеркиваю «иногда», потому что не могу согласиться со Львом Ошаниным в том, что мы растеряли свою аудиторию. Вы бы, Лев Иванович, побывали вместе с нами на концертах перед студентами, рабочими, колхозниками, тогда бы так прямолинейно не сказали.
Но верно: сегодня народ хочет петь не то, что он пел вчера.
Вот в таком смысле — в смысле того, что жизнь обгоняет нас, — я могу согласиться с критикой нынешнего состояния песенного творчества, хотя так же, как Милютин, я не вижу здесь кризиса.
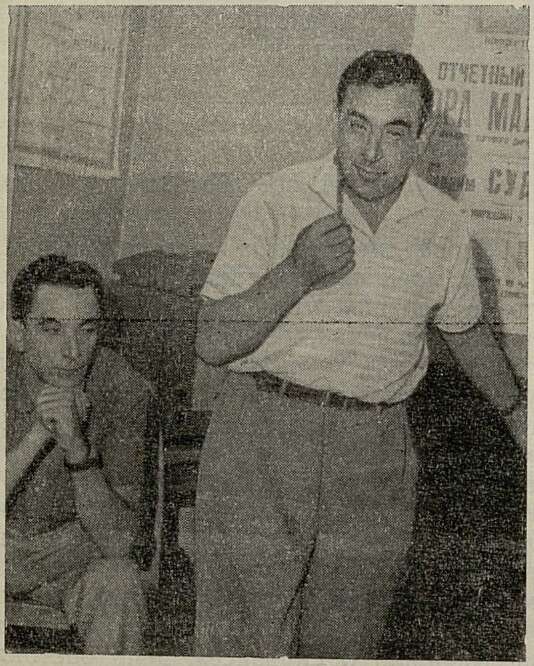
Почему, например, имеет большой успех песня «Я люблю тебя, жизнь» Колмановского, которую сегодня много раз вспоминали и добрым, и недобрым словом? Я это объясняю так: в народе есть жгучая потребность поэтично и проникновенно сказать о своей любви к Родине, к жизни, к советской жизни. И мы на эти важнейшие темы действительно пишем хотя и много, да не очень удачно. И вот песня Колмановского — а у нее есть свои достоинства, — в какой-то мере ответив на потребности людей, временно завоевала их внимание. Конечно, то, что я говорю, свидетельствует за песню: не был бы даровит ее автор, он не сумел бы сделать даже такую заявку на большую тему. Но в общем-то успех песни Колмановского — урок другим талантливым композиторам: нужно быть более инициативным, чутким к запросам своих современников.
Чтобы стало совсем ясно, почему, отдавая должное песне Колмановского, я не могу слишком высоко оценить ее, приведу такой пример. Вы помните, какие замечательные песни появлялись в годы Великой Отечественной войны. А теперь представьте себе, что тогда не было бы ни «Священной войны» Александрова, ни песен Захарова, Соловьева-Седого, Мокроусова, а был создан всего лишь «Марш защитников Москвы» Б. Мокроусова. Песню и так много пели, а если бы она была единственной и лучшей — вы представляете, какой бы она имела успех? Но ведь песня эта, положа руку на сердце, не лучшая у Мокроусова, и, конечно, она уступает ряду произведений названных только что мною композиторов. Вот так случилось и с песней Колмановского.
Теперь другое. Нам очень мешает система пропаганды музыки, практикуемая, как это ни парадоксально, Министерством... торговли. Да, я не оговорился. Ни для кого не секрет, что мы покупаем за границей пластинки с записью легкой музыки, и вот отбор этих записей — что покупать — производят не музыканты, а товароведы, не имеющие ни знаний в этой области, ни вкуса. А раз пластинка куплена, ее начинают пропагандировать в той же системе Министерства торговли — продать ведь надо! Вы зайдите в отделы, где продают пластинки — в ГУМ, ЦУМ. Военторг. Везде вы сможете часами слушать томные танго, блюзы или быстрые фокстроты зарубежного производства. Но ведь такая музыка страшно засоряет слух, портит вкусы! Надо изменить эту порочную систему. Популярность песни во многом зависит от того, как ее пропагандируют и как ее исполняют. К сожалению, в работе учреждений, ответственных за пропаганду песен, много недостатков. На Радио, например, плохо организована запись новых сочинений. Песни репетируются в студии уже во время записи: оркестр, как правило, играет «с листа», а солисты и хор разучивают
партии наспех. Говорить о полноценной художественной записи при таких условиях не приходится.
И последнее. Я хочу высказать претензию к музыковедам, к журналу «Советская музыка». Вы посмотрите, товарищи, сколько за последние годы вышло авторских сборников песен! И ведь ни одной строчки об этом нигде нельзя прочитать. Да хоть бы обругали, если плохие песни попали в сборник! Так нет же — просто никто не замечает, что делается вокруг. Надо нарушить этот «заговор молчания».
В музыковедческой среде существует пренебрежительное отношение к песенному творчеству. Некоторые молодые товарищи считают, что писать о песне «не солидно», что гораздо важнее изучать наследие классиков, современные симфонические, оперные произведения. Видимо, в консерваториях не прививают молодым специалистам интереса к массовым жанрам.

А. ПАХМУТОВА:
Я повторю то, что уже написала: хорошую инициативу проявил журнал, начав разговор о песне и, добавлю, пригласив нас в гости. Я думаю, что именно так — без нервозности и поспешного наклеивания ярлыков — спокойно, по-деловому нужно говорить о песне. И при этом сейчас важнее всего, пожалуй, сказать не о том, какая в прошлом песня удалась, а какая не удалась, но нужно подумать о перспективах — творческих, организационных, исполнительских, и, в частности, еще и еще раз сказать о значении хорошей записи песни на Радио.
И. НЕСТЬЕВ:
Снова дискуссия о массовой песне...
На моей памяти таких дискуссий было по меньшей мере десятка два. И, говоря откровенно, редко эти дискуссии — печатные или устные — оказывались столь уж эффективными. Их смысл чаще всего сводился к установлению очередных «криминалов»: штамп, мелкотемье, тривиальность, безвкусица, поэтическая убогость... Стрелы критического обличения ложились точно в цель, повергая в уныние или вызывая ярость песенных дел мастеров. Позднее, впрочем, иногда выяснялось, что в тот период, когда критика говорила о «кризисе», дело обстояло не так уж безнадежно: среди десятков штампованных творений, как жемчужные зерна, сияли немногие песенные удачи, точно отвечавшие на главные запросы своего времени. Беда в том, что основной пафос всех этих дискуссий был сугубо негативным: не хватало смелых конструктивных идей, устремленности в будущее. Нечто подобное происходит, по-моему, и сейчас.
Не приходится спорить: вирус мещанства, проникающий в нашу песню — и, в частности, песню публицистическую — опасен и отвратителен. Об этом верно говорили с трибуны пленумов Дм. Кабалевский и Д. Шостакович, об этом метко и доказательно написала Л. Генина. Установить диагноз — дело весьма до
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Мечта, ставшая реальностью 5
- Новые стихи советских поэтов 10
- «Мальчики» 12
- Романтическая поэма 19
- Герои Важа Пшавела в опере 24
- Юность грузинской оперетты 28
- В поисках своего пути 31
- За круглым столом 35
- Композитор Алексей Головков 53
- Так ли нужно готовить смену? 57
- На экзаменах в Ленинграде 62
- Выпускники Киевской консерватории 63
- Театр и школа 66
- Реплика В. Щеглову 69
- Еще раз о «Рассвете» 71
- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74
- Рахманинов в Грузии 80
- Заметки об «Этюдах-картинах» 81
- Бесплодный эксперимент 83
- Реставрация или творчество? 86
- Когда довлеют штампы… 90
- Марго Фонтейн 95
- Александр Грант 97
- Песни Забайкалья 100
- Мастер оперного театра 104
- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110
- Азербайджанские заметки 114
- Только ли слушатели? 115
- Ближе к современности 118
- Спор американского и советского музыкантов 121
- Встречи со Стравинским 127
- Фестиваль в Загребе 129
- Даниель Лесюр 132
- Гарсиа Лорка — музыкант 134
- Пестрые страницы 137
- Учебник истории русской музыки 142
- Полезный труд 144
- Нотографические заметки 146
- Хроника 147



