стью, забывают. Тогда возникают песни мелких чувств, песни липкие, песни ни о чем — музыкальная шелуха. Эта шелуха засоряет эстраду, радио и кино, грязнит быт. На замутненной поверхности вдруг всплывают образы, возникают интонации песен времен нэп’а. Это опасно.
Мещанину обычно «все — все равно». Ему важно сохранить «хорошее настроение». Странно, если советская песня придет ему на помощь. Критика должна быть здесь настороже.
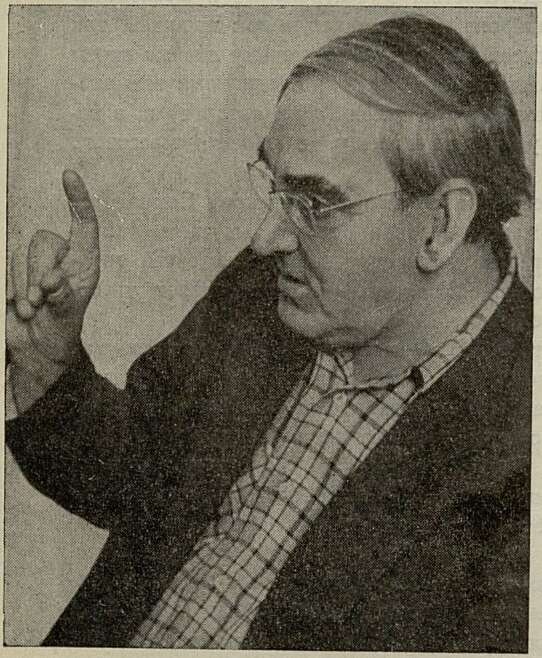
В песне, как и всегда в искусстве, дорога индивидуальность автора.
В нашем замечательном песенном творчестве много превосходных образцов глубоко индивидуального переживания событий. Можно говорить о песенных стилях; можно, но обычно не говорят. Критика не пытается разглядеть индивидуальность автора, его манеру, приемы, его слышание мира. Стили композиторов-песенников остаются вне анализа критика, а это порождает «теории» о непознаваемости песни. Снимаются критерии оценки. Тогда «все можно».
Плохо спетая песня — не песня. Однако редко кто из наших песенных коллективов или певцов (исключая Краснознаменный ансамбль и нескольких настоящих художников — наполнителей) «вдевает» песню, живет ею хоть немного «по-шаляпински».
Песни разучиваются и записываются на Радио молниеносно. Эта манера «блица» нивелирует песню. Мелькание десятков и сотен дурно спетых песен с топорной «оркестровкой» отвращает слушателей и губит песню.
Когда песня глубока и чиста, когда она спета проникновенно и критик сказал о ней верно найденное слово, — это должно быть ответом, заметным для всех.
Итак, беседа в редакции подошла к концу. Трудно, конечно, на основании нескольких, даже содержательных, выступлений сделать значительные обобщения. Однако, высказывания композиторов и музыковедов позволяют утверждать, что разговор о песне, безусловно, своевременен. Решительно возражая против определения состояния песенного жанра, как «кризисного» (кстати, такое определение на страницах журнала не выдвигалось), присутствующие в той или иной мере, признавали, что развитие жанра в настоящее время слишком замедленно, словно бы «на тормозах», что в произведениях последних лет слабо ощущается дух смелого новаторства — даже наиболее одаренные композиторы создают свои произведения в русле уже известных старых традиций; в песне мало творческого изобретательства, почти нет «открытий».
Такое положение сложилось не сразу. На протяжении последних лет симптомы застоя неоднократно проявлялись в жанре массовой песни, но здоровые, творчески активные начала ее неизменно брали верх. Несомненно, так будет и теперь. Потому что, как правильно говорил Б. Терентьев — «сильная своей непосредственной связью с народом, песня остается такой же неистощимой, она продолжает жить и дышать». Но это не значит, что всем, кто участвует в ее создании и пропаганде, равно как и критике, можно, сложа руки, ждать, когда же начнется крутой подъем. И здесь нужно отметить ряд причин неудовлетворительного состояния песенного дела, действитель
ных, по крайней мере, для отряда московских авторов. Главная из них — почти полная утрата секцией песни MOCK РСФСР своего положения, как творческого штаба, как центра творческой мысли, как основной творческой лаборатории для композиторов, пишущих в данном жанре. Не стоит взваливать вину за это только на нынешнее руководство секции. Нет, работе ее не уделяли внимание и Правление столичного Союза, и Секретариат СК РСФСР и, наконец, Секретариат СК СССР.
Но, кто бы ни был виноват, остается фактом то, что секция не занималась своим непосредственным делом и «руководство» в области песни взяли на себя административные работники музыкально-концертных организаций.
В самом деле, только полным отсутствием общественно-творческого контроля можно объяснить, почему в музыкальные издательства, в центральные и московские газеты, наконец, в безбрежный мир эфира широко открыт доступ как хорошей, так и серой, посредственной, а подчас и пошлой песенной продукции; почему личные вкусы немногих — не более десятка — редакторов издательств, газет и Радиокомитета оказываются определяющими для судьбы десятков и сотен песен (и их авторов) и, в конечном счете, диктуют художественную политику в области массового жанра.
Элементы равнодушия, проникшие в песенную секцию Московского Союза (самой молодой творческой организации), оказывают вредное влияние на часть композиторской молодежи. Ряд молодых композиторов начинает относиться к своей творческой работе чисто коммерчески и, с легкостью сбывая свой «товар», теряет требовательность к себе, художественную взыскательность.
В выступлениях композиторов Б. Терентьева, О. Фельцмана содержалась важная мысль о необходимости обогащать свое мастерство в области формы и структуры песен. Действительно, очень актуальная задача! И в этом отношении многому могут научиться наши композиторы не только на опыте прошлого, но и на примерах передовой творческой практики современности. Вспомним хотя бы, как смело ломали каноны куплетной, песенной формы А. Давиденко и И. Дунаевский, В. Захаров и А. В. Александров. И как по-новому трактует форму и структуру песни В. Соловьев-Седой в своих лучших произведениях! Но, разумеется, такое новаторство не самоцель. Оно может быть оправдано лишь в том случае, если композиторы будут неутомимо, творчески пытливо искать свежее жизненное содержание, будут стремиться подмечать новое и обобщать его в музыкальных образах. Песне многое дано, она ведь всегда — на переднем крае!
Близится пленум Правления Союза композиторов РСФСР, посвященный песенному творчеству. Это обязывает всемерно расширять рамки и формы творческой дискуссии. Редакция предоставляет трибуну композиторам, поэтам, критикам, исполнителям, слушателям — всем, кто любит советскую песню.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Мечта, ставшая реальностью 5
- Новые стихи советских поэтов 10
- «Мальчики» 12
- Романтическая поэма 19
- Герои Важа Пшавела в опере 24
- Юность грузинской оперетты 28
- В поисках своего пути 31
- За круглым столом 35
- Композитор Алексей Головков 53
- Так ли нужно готовить смену? 57
- На экзаменах в Ленинграде 62
- Выпускники Киевской консерватории 63
- Театр и школа 66
- Реплика В. Щеглову 69
- Еще раз о «Рассвете» 71
- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74
- Рахманинов в Грузии 80
- Заметки об «Этюдах-картинах» 81
- Бесплодный эксперимент 83
- Реставрация или творчество? 86
- Когда довлеют штампы… 90
- Марго Фонтейн 95
- Александр Грант 97
- Песни Забайкалья 100
- Мастер оперного театра 104
- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110
- Азербайджанские заметки 114
- Только ли слушатели? 115
- Ближе к современности 118
- Спор американского и советского музыкантов 121
- Встречи со Стравинским 127
- Фестиваль в Загребе 129
- Даниель Лесюр 132
- Гарсиа Лорка — музыкант 134
- Пестрые страницы 137
- Учебник истории русской музыки 142
- Полезный труд 144
- Нотографические заметки 146
- Хроника 147



