
должна быть прежде всего народной по духу, ощущению жизни наших людей сегодня. Если мы почувствуем дыхание современности, — наша песня будет нужна народу, а народ сам сделает ее своей, народной.
Я говорил ранее о роли композитора, как запевалы нового. Эту позицию нам занять необходимо. В противном случае нас ожидает множество ошибок.
Нередко мы допускаем «маленькую» уступку дурному вкусу, думая, что на нее никто не обратит внимания. А эта «небольшая» сделка с совестью мстит за себя и почти никогда не остается незамеченной.
В последнее время много споров идет о песне Э. Колмановского «Я люблю тебя, жизнь». У слушателей она пользуется большой популярностью. Музыканты же оценивают ее по-разному.
Думая об этой песне, часто слушая ее, я не могу отделаться от ощущения того, что песня эта чем-то «коробит». Проиграв ее на рояле, «без слов», я почувствовал, что в таком «бессловесном» виде песня меня больше устраивает. Что же, слова плохие? Нет, очень хорошие. В чем же, наконец, «разгадка»? Опять послушал песню со словами, и снова возникло у меня ощущение, что песня эта в целом невысокого вкуса. И, наконец, я нашел (для себя, по крайней мере) удовлетворительное объяснение. А дело опять-таки в «маленькой уступке» дурному вкусу. «Ключевые», заглавные слова песни «Я люблю тебя, жизнь» (ими начинается и заканчивается стихотворение!) должны, естественно, произноситься гордо, открыто, прямодушно. Колмановский же переставил ударение: «Я люблю тебя, жизнь», и эта неверная, ничем не оправданная перестановка придала самым важным, повторяю, словам песни оттенок развязности, какого-то панибратства. И песня сразу перестает восприниматься, как обобщенное патриотическое произведение. Кажется, что она может служить образной характеристикой для какого-нибудь «своего в доску» парня. И хотя такие образы в кино или театре завоевывали, порой, симпатии зрителей, характеры их были явно с «изъяном». Слова «Я люблю тебя, жизнь» в нашем воображении никак не ассоциируются с образами таких парней. Слова глубже, умнее, значительнее; они выражают мировоззрение подлинных героев нашего времени. А этим героям чужда развязность. Они не станут подлаживаться под «простака», коверкая свой родной язык, а будут с достоинством и гордостью говорить о самом дорогом на свете.
От Э. Колмановского, я уверен, мы получим еще не одну запоминающуюся песню, и это обязывает его, одаренного композитора, тщательнее относиться к характеру героев своих произведений. Мне на память приходят глубокие, впечатляющие песни, появившиеся в последнее время. Такие песни, как песня С. Туликова об Африке, песня А. Пахмутовой
«Воркута», «Товарищ Куба» Островского, — в них в каждой йоте, в каждом слове чувствуешь единство замысла, точность его воплощения. И тогда песня по праву празднует свою победу. Я думаю о песнях, которые звучат вокруг, и о песнях, которые еще не написаны. Впереди — волнующие события нашей жизни. В дни XXII съезда партии зазвучат новые песни. Заветная мечта каждого из нас — написать к этой дате самое лучшее, самое дорогое. Скептики могут возразить — а где же выдающиеся произведения? Следует им ответить: лучше заняться подсчетом «выдающихся» попозднее. Время покажет, какие песни закрепились в быту, а какие «вышли в тираж». А пока не грешно порадоваться тому, что хорошие песни снова стали появляться чаще. Круг тем расширяется. Есть и музыкальные изобретения.
Впереди пленум, посвященный песне. Готовиться к нему следует с большой ответственностью. Лучшее — на пленум!
Но по опыту прошлого мы знаем, что часто подготовительная работа секции песни сводится на нет плохой организацией концертов, никому не нужной многократной «фильтрацией» программ. И (что скрывать!), может быть, именно благодаря старательному «причесыванию» программ создается порой впечатление однообразия наших песен.
Я предложил бы провести такой эксперимент. Пусть мастера советской песни на свой выбор подарят пленуму свое новое произведение. Мы составим программу из этих песен-подарков. Думаю, что мы получим интересный «букет» разных по почерку произведений. И тогда на практике поймем, что нужно больше доверять самим композиторам.
Попробуем, товарищи! Пусть пока это называется экспериментом!
Б. ТЕРЕНТЬЕВ:
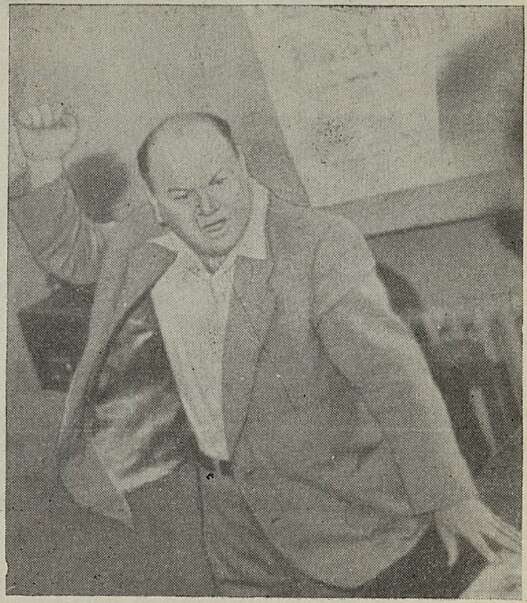
То, что мы сегодня горячо, с партийной страстностью начали спорить о песне, — очень хороший признак. Нам очень не хватает таких разговоров — прямых, искренних, убежденных. И я хочу сказать: знамя нашей песни всегда развевалось в авангарде советской музыки; его высоко держали Дунаевский и Захаров, Новиков и Милютин, Белый и Листов, Мокроусов, Блантер, Соловьев-Седой и еще многие композиторы. Не забудем и поэтов — наших боевых товарищей — Лебедева-Кумача, Алымова, Уткина, Недогонова. Вообще в песне замечательно хорошо осуществлялась своеобразная «эстафета времен и поколений». Своеобразная, потому что, когда к ведущим, которые несли самые яркие песенные «флажки», присоединялось свежее, молодое пополнение, — передовые отнюдь не уступали своих позиций, а шли вместе с новичками. Так в советскую песню все время вливались новые силы, и она, повторяю, высоко несла знамя советского искусства.
Что же теперь? Скажу прямо — есть трудности, товарищи, есть! Не нужно делать вид, будто их нет, и у нас все в порядке. Но ведь трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать. Нужно осознать свои недостатки.
Я считаю, главное — мы потеряли критерий высокой требовательности, и микроб невзыскательности проник в наш организм, понизил тонус работы в песенном жанре. Что говорить — песня опустила немного свои крылья; не упала, конечно, но знамя ее все же поникло!
Кто виноват? Да мы же с вами, товарищи. Есть, конечно, так сказать, объективные причины. Нет сейчас уже с на
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Мечта, ставшая реальностью 5
- Новые стихи советских поэтов 10
- «Мальчики» 12
- Романтическая поэма 19
- Герои Важа Пшавела в опере 24
- Юность грузинской оперетты 28
- В поисках своего пути 31
- За круглым столом 35
- Композитор Алексей Головков 53
- Так ли нужно готовить смену? 57
- На экзаменах в Ленинграде 62
- Выпускники Киевской консерватории 63
- Театр и школа 66
- Реплика В. Щеглову 69
- Еще раз о «Рассвете» 71
- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74
- Рахманинов в Грузии 80
- Заметки об «Этюдах-картинах» 81
- Бесплодный эксперимент 83
- Реставрация или творчество? 86
- Когда довлеют штампы… 90
- Марго Фонтейн 95
- Александр Грант 97
- Песни Забайкалья 100
- Мастер оперного театра 104
- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110
- Азербайджанские заметки 114
- Только ли слушатели? 115
- Ближе к современности 118
- Спор американского и советского музыкантов 121
- Встречи со Стравинским 127
- Фестиваль в Загребе 129
- Даниель Лесюр 132
- Гарсиа Лорка — музыкант 134
- Пестрые страницы 137
- Учебник истории русской музыки 142
- Полезный труд 144
- Нотографические заметки 146
- Хроника 147



