Творчество молодых
А. ШНИТКЕ
В ПОИСКАХ СВОЕГО ПУТИ
А. Караманов — молодой композитор, но писать о нем трудно. За несколько лет он в своем творчестве вычертил такую «кривую», что нелегко разобраться в том, где он прав, а где ошибается. Это не тот случай, когда по недостатку опыта и профессионализма композитор не может найти правильного пути. Караманов прекрасно отдает себе отчет в том, что делает. У него большой, бесспорный талант. Даже в заблуждениях своих он искренен и привлекателен.
То, что Караманов пишет сейчас, как будто несовместимо с тем, чем он начал. Человек, наделенный впечатлительной и нервной психикой, необычайно острым слухом, великолепной музыкальной памятью, приехал из небольшого южного города в Москву. Здесь на него нахлынула масса разнообразнейших музыкальных впечатлений. Несколько лет были заполнены опытами и экспериментами, часто рискованными. Но бессознательное цветение таланта, еще не дисциплинированного логикой, поражало щедростью мелодических, гармонических и тембровых находок. В работах консерваторских лет проявилась особая склонность Караманова к изобразительной характерности. Показательна в этом отношении оркестровая сюита (1956 г.), отдельные части которой по первоначальному замыслу имели конкретно-программные, хотя и довольно неожиданные названия.
Первая часть — «Утро» — рисует пробуждение большого города. В медленном вступлении с первых же тактов обнаруживается оригинальная и смелая тембровая логика. Произведение открывается гибкой, пластичной мелодией скрипок (она двенадцатизвучна, но вместе с тем естественна и тональна).
Постепенно включаются другие голоса, каждый со своей самостоятельной линией, часто импровизационной. Здесь нет точно повторяемых мотивов, постоянного метра, все зыбко и неустойчиво. Идет длительное «нащупывание» основного размера. Слушателя как бы захватывает стихийный и мощный поток жизни большого города, на первый взгляд неорганизованный, но гипнотизирующий своим внутренним ритмом.
Вторая часть — «Грустная вечерняя песенка» — привлекательна очаровательной наивностью ее мелодии, рождающей ассоциации с прокофьевской «детской» музыкой.
Средний раздел — «Страшный сон»: какое-то мультипликационное «чудовище», которое смешно и беспомощно пытается напугать. Затем все успокаивается, еще мягче звучит убаюкивающая мелодия (порученная на этот раз саксофону сопрано).
Третья часть — «Очень веселая утренняя песенка» — напоминает блестящие «цирковые» галопы и польки Шостаковича. Здесь и иронически-традиционное вступление, и бойкий кларнет, и трескучее tutti — «парад всех участников».
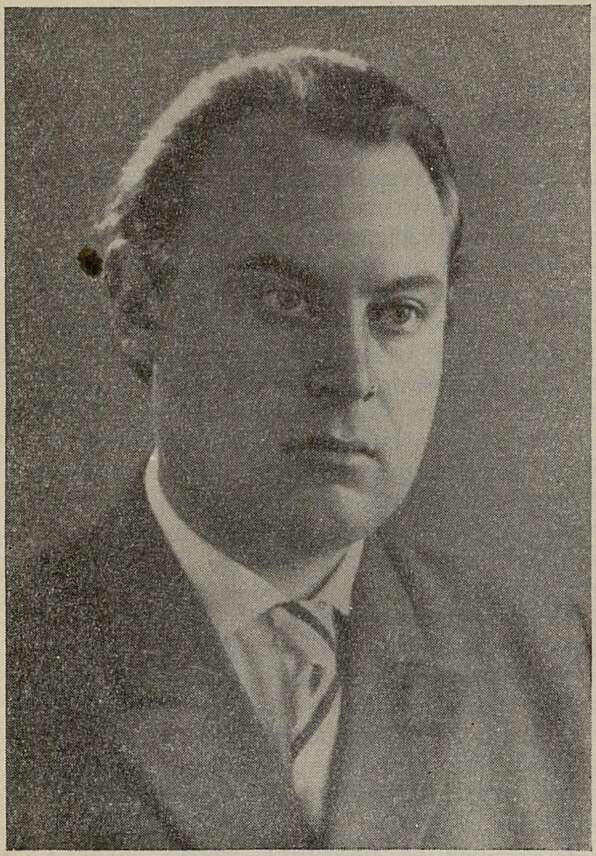
Но все это не так беззлобно, как кажется поначалу; средний раздел пугает каким-то тупым и автоматическим напором. Саркастическая деталь — имитация на мнимую тему, состоящую из одной назойливо вдалбливаемой терции. Словно облако набежало на ясное небо; это предвещает «Пасмурный день» — следующую часть сюиты. Ее пронизывает неумолимая остинатная ритмоформула, на которую наложены сменяющие друг друга «кадры»; гнетущие, словно низкие темные тучи, аккорды тромбонов и фаготов, унылой «тенью» ползущие горькие интонации английского рожка, ветром завывающие пассажи засурдиненных скрипок и саксофона, беспокойные «перезвоны» флейт и колокольчиков.
Финал — «Прогулка на мотоцикле» — врывается в цикл зазывным, упрямо синкопирующим сигналом валторн. С неподдельным, прямо-таки гайдновским простодушием даны натуралистические детали: вот мотоцикл заводится, вот он понесся, сначала рывками, затем ровно.
В музыке передано даже переключение скорости (доминантовый предъикт к ре мажору неожиданно «въезжает» на полтона выше, в Es-dur). Блестящий пример музыкального остроумия — вторая тема («мотоциклист напевает, но за шумом мотора сам себя не слышит и оттого фальшивит»).
Удивительно, что это произведение до сих пор не нашло доступа к слушателям. Уже четыре года его запись пылится в фонотеке Дома звукозаписи, ни разу не прозвучав в эфире. Конечно, сюита не безгрешна: в ней отсутствует единый композиционный стержень; можно упрекнуть автора в недостатке собственного отношения к беспорядочно изображаемым событиям. Но вместе с тем ее музыка привлекает острой характерностью образов, яркостью неожиданных тембровых сочетаний, свежестью музыкальных тем.
*
Близки сюите по безотчетно радостному восприятию жизни и последующие сочинения Караманова — Симфониетта (1957) и Фортепьянный концерт (1958).
Симфониетта — стройное, гармоничное по форме сочинение, хотя автор и «рискнул» поставить рядом две медленные части (вторую и третью). Манера письма — лаконичная и афористическая, приемы развития неожиданны. Уже в первой части в сжатом виде дан весь «круг» развития музыки — от изящной скерцозной первой темы через лирику побочной партии и разработку — к кульминации. Здесь хрупкая застенчивая вторая тема неожиданно приобретает мучительно искаженный облик, но к концу части снова берут верх настроения безмятежной пасторальности.
Andante начинается экспрессивным, несколько «пряным» по гармонизации «хором» струнных.
Развитие этой темы приводит к экспрессионистски напряженной кульминации с «хриплыми» возгласами валторн.
После этого уже невозможно возвращение к идиллическому благополучию начала — краткая, «дотлевающая» реприза
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Мечта, ставшая реальностью 5
- Новые стихи советских поэтов 10
- «Мальчики» 12
- Романтическая поэма 19
- Герои Важа Пшавела в опере 24
- Юность грузинской оперетты 28
- В поисках своего пути 31
- За круглым столом 35
- Композитор Алексей Головков 53
- Так ли нужно готовить смену? 57
- На экзаменах в Ленинграде 62
- Выпускники Киевской консерватории 63
- Театр и школа 66
- Реплика В. Щеглову 69
- Еще раз о «Рассвете» 71
- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74
- Рахманинов в Грузии 80
- Заметки об «Этюдах-картинах» 81
- Бесплодный эксперимент 83
- Реставрация или творчество? 86
- Когда довлеют штампы… 90
- Марго Фонтейн 95
- Александр Грант 97
- Песни Забайкалья 100
- Мастер оперного театра 104
- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110
- Азербайджанские заметки 114
- Только ли слушатели? 115
- Ближе к современности 118
- Спор американского и советского музыкантов 121
- Встречи со Стравинским 127
- Фестиваль в Загребе 129
- Даниель Лесюр 132
- Гарсиа Лорка — музыкант 134
- Пестрые страницы 137
- Учебник истории русской музыки 142
- Полезный труд 144
- Нотографические заметки 146
- Хроника 147



