ра»), а на Аиду надели вполне современные босоножки. В спектакле «Манон» за задником собора, расписанным под камень, упорно горела яркая белая лампа, освещая чей-то силуэт. И уж совсем плохо было, когда в «Пиковой даме» при открытом занавесе рабочие сцены продолжали меблировать «спальню графини», а в «Аиде» на фоне древних египетских храмов перед изумленным зрителем заметался и исчез человек в синей «спецовке». Подобных «накладок» было слишком много для такого опытного и творчески богатого коллектива, каким является, без сомнения, оперный театр Свердловска!
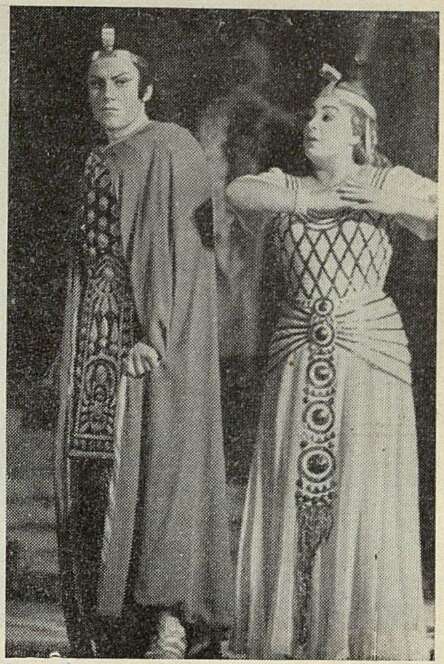
«Аида». Радамес — М. Заика, Амнерис — М. Глазунова
В. Лосский когда-то образно сравнивал театр с хорошо смазанной машиной, работающей без визга и скрипа. Не заржавели ли какие-то маленькие, но существенные частички театрального механизма Свердловской оперы?
* * *
Всегда ли бережно относятся в Свердловском оперном театре к авторскому замыслу? Этот вопрос приходится задавать себе, когда слушаешь оперы Чайковского. Усиление социальной линии сюжета в «Орлеанской деве» показалось надуманным, навязанным извне. В особенности пострадал в новой редакции либретто (принадлежащей С. Левику и М. Минскому) образ Тибо, отца Иоанны: передав половину его партии некоему духовному лицу — обличителю ереси, составители новой версии либретто лишили образ логики развития.
Еще меньше убеждает постановка «Пиковой дамы» (режиссер М. Минский). За исключением двух-трех эпизодов (пастораль, появление призрака графини, сцена Лизы у Канавки), здесь полностью утеряна сценическая правда.
Дело, разумеется, не в том, что режиссеру пришло в голову перенести время действия на пятьдесят — шестьдесят лет поближе к нашему времени. Вместо четкой сценической концепции режиссер попытался навязать глубоко реалистической музыке оперы некую смесь жанрового бытовизма и надуманной мистики. Герман то кидается «ухаживать» за Лизой, не забывая при этом ни на минуту о своем плаще и фуражке (как это делает артист Г. Зелюк во 2-ой картине), то застывает, встав на скамью (?), в мистическом «прозрении» (сцена в казарме). В финале оперы он стреляет в себя из пистолета и умирает, напряженно вглядываясь в розовые лучи рассвета, отпеваемый невидимым слушателю хором (по воле режиссера, умирающий Герман остается наедине с Елецким).
* * *
За последнее время (в особенности после спектаклей французского балета) усилились голоса критиков балетных спектаклей, призывающие «назад, к танцу». Призывы эти в большой мере справедливы — об этом свидетельствует и постановка «Щелкунчика» балетным коллективом Свердловского театра. Право, можно посочувствовать исполнителям главных партий балета и прежде всего — очень талантливой юной балерине Н. Меновщиковой (Маша): балетмейстер Г. Язвинский словно нарочно изгонял из спектакля классический танец. Вовсе не ощущается в балете заботы постановщика о цельности хореографического образа, об органичном его развитии. Пантомимные излишества, зрелищные эффекты сомнительного качества (теневые картины борьбы солдатиков и мышей и
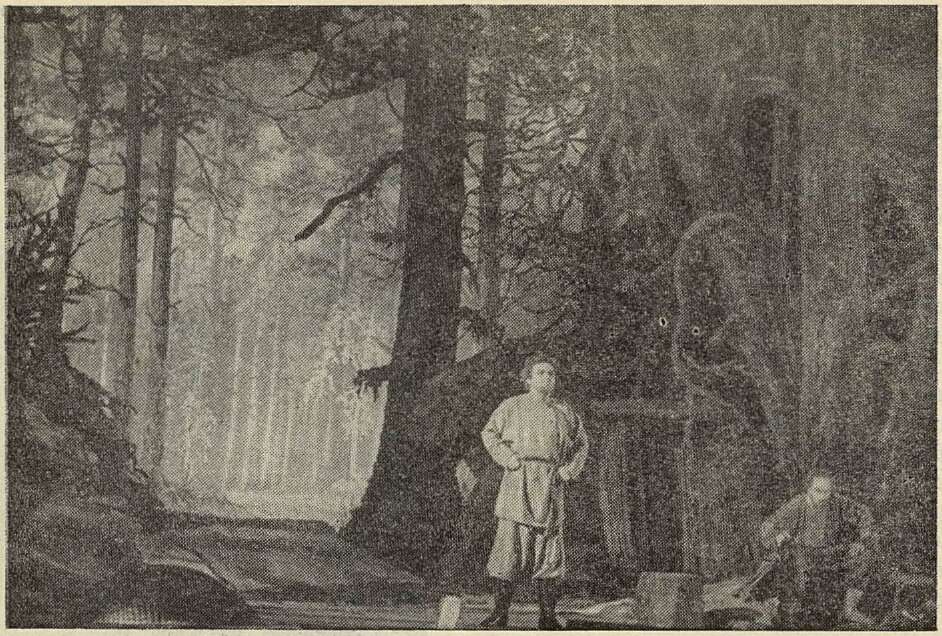
«Охоня». Тимофей Белоус — И. Семенов
прочее) — начисто заслоняют от зрителя хореографическую красоту образов «Щелкунчика».
Многие сцены балета выполнены аляповато, хореографически до предела примитивны. Вспоминается нелепая пантомима дедов-морозов (неведомо откуда взявшихся), вполне «реальные» девушки-снежинки, тяжеловатые танцы кукол в первом акте.
Даже такой благодарный для танцовщиков балет, как «Корсар», перегружен пантомимой, режиссерскими «выходками», скорее мешающими талантливым солистам (С. Тарановской — Медоре, В. Круглову — Корсару, М. Таубэ — Бирбанто и другим) в полную меру показать свои артистические дарования, создать законченные образы.
Те же обстоятельства и, пожалуй, еще совершенная «небалетность» сюжета являются, как нам кажется, причинами относительно скромного успеха балета Б. Александрова «Левша», в котором были заняты такие отличные танцовщики, как К. Черменская, В. Круглов, Ч. Жебраускас.
Да не посчитают нас противниками пантомимы вообще! В связи с гастролями свердловчан были опубликованы статьи, осуждавшие в той или иной форме композитора А. Фридлендера за обращение к сюжету «Бесприданницы» Островского как, якобы, не балетному. Эти замечания не представляются нам справедливыми и обоснованными. В советском балете возникли и утвердились спектакли, сочетающие танец и пантомиму, — спектакли, где все подчинялось логике развития образа, художественной правде.
В балете Фридлендера «Бесприданница» немало пантомимы, этого «балетного речитатива». Но сочетание ее с танцем всюду органично. Кульминационные же сцены решаются средствами танца. Танец-романс Ларисы (ее партию проникновенно исполняет С. Тарановская) — яркая психологическая кульминация этого образа... Не менее впечатляет сцена, в которой становится страшным в своих мучениях ревности совсем недавно еще смешной Карандышев, жених-неудачник. В исполнении талантливого Ч. Жебраускаса, мастерски владеющего не только танцем, но и мимикой, жестом эта сцена полна настоящего, сильного драматизма.
Зачем же взвешивать, словно на апте-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Пути современного новаторства 5
- Творчество В. Салманова 18
- Расцвет киргизской музыки 23
- Замечательное содружество 29
- Киргизские мастера искусств в Москве 33
- О болезнях нашей киномузыки 34
- Романсы Ю. Мейтуса 39
- Новый скрипичный концерт 43
- О некоторых основах стиля Римского-Корсакова. Очерк 2 46
- Вокальный стиль Вагнера 57
- Михал Клеофас Огиньский 64
- Ференц Легар — классик оперетты 73
- Забытые работы В. Одоевского 80
- Возрожденная опера 84
- На спектаклях Свердловского театра 90
- «Ак-Шумкар» 98
- Фрагменты автобиографии 102
- Владимир Софроницкий 108
- Репетиционная работа с оркестром 113
- Вдохновенное искусство корейского народа 118
- Эстрадный оркестр О. Лундстрема 119
- Симфонические концерты летом 121
- Гастроли воронежского оркестра 122
- На селе ждут артистов 123
- В городе текстильщиков 125
- Поют эстонские учителя 127
- Музыкальные классы в Тушино 129
- Брянские песенницы 130
- Откровенный разговор с польскими друзьями 131
- В. Фуртвенглер о музыкальном модернизме 134
- Творчество Эугена Сухоня 136
- Арабская музыка 138
- На гастролях в народном Китае 139
- Памяти М. Шнейдера-Трнавского 141
- Исследования китайских музыковедов 142
- По страницам английского журнала 143
- Поль Робсон в Москве 145
- Композитор-гуманист 148
- Краткие сообщения 148
- Эстрада, эстрада… и еще раз эстрада 150
- Газеты — молодежи 151
- Музыка на радио 151
- Книга о грузинской книге 153
- Теоретические работы П. И. Чайковского 157
- Коротко о книгах 158
- А. Пахмутова. Ноктюрн для валторны и фортепьяно 158
- Рихард Вагнер. Романсы на стихи французских поэтов для высокого голоса с фортепьяно 158
- В. Ахобадзе. «Сборник грузинских (сванских) народных песен» 159
- Об издании и распространении нот 160
- Музыкальные школы приблизить к жизни! 162
- Незаинтересованность в эстетике 163
- Упорядочить производство грампластинок 164
- Мастера искусств на целинных землях 166
- В честь сорокалетия комсомола 167
- Музыковедческий пленум в Киеве 168
- Новые произведения белорусских композиторов 169
- Творческие встречи 169
- Гастроли Белорусского оркестра 169
- Гости столицы 170
- Хороший почин ереванцев 171
- Музыкальная школа на Дальнем Севере 172
- В несколько строк 172
- М. И. Сахаров 174



