Неподдельной лиричностью, в которой нет-нет, да и ощутишь нотку щемящей тоски, веет от танца Лейли из второй картины:
Пример
Вершиной музыки всего балета является заключительная сцена. Умирающая Лейли, увидев рядом с собой Меджнуна, впервые ощущает полноту счастья. Но смерть неотвратима, и Лейли угасает на руках у любимого.
В музыке этой сцены нет ни надрыва, ни сентиментальности. Но зато сколько в ней подлинной поэтичности, просветленности, внутренней теплоты:
Пример
Строгая и величавая тема развивается постепенно до огромной кульминации и затем спадает, затихает. И лишь после того, как отчаявшийся Меджнун решает покончить с жизнью, динамика снова нарастает, и все произведение кончается торжественным (но отнюдь не крикливым) до мажором. Большая мудрость заключается в этой оптимистической концовке: любовь сильнее смерти!
Повторяю, — заключительная сцена по своей эмоциональной выразительности, благородной сдержанности чувств, простоте и ясности примененных средств — наиболее сильное и яркое место балета. И можно только пожалеть, что превосходная тема финального Адажио не стала лейттемой произведения, темой великой и прекрасной любви Лейли и Меджнуна; в партитуре она встречается еще только один раз — во вступлении, создавая, таким образом, как бы рамку, окаймляющую всю музыку балета.
*
Хочется сказать несколько слов об основных особенностях музыкального языка балета «Лейли и Меджнун», характерных для творческого метода С. Баласаняна.
Связь с народными источниками меньше всего выражается у него в прямом использовании подлинных народных мелодий. Однако глубокое изучение основ народной музыки — таджикской (а также и армянской) — чрезвычайно обогатило творческую палитру композитора и нашло свое отражение во всех элементах его музыкального языка.
Баласанян широко пользуется народными ладами — миксолидийским, фригийским, дорийским, лидийским, а также специфическими ладами, встречающимися на Памире (например, минорный лад с повы-
шенными IV и VII ступенями и мажорный лад с пониженными II и VI ступенями). Встречающиеся в двух последних ладах тритоновые интервалы дают возможность композитору убедительно применять так называемый цепной и дважды цепной лад.
Анализируя ладовое строение музыки балета, приходишь к выводу об удивительной ладовой «чуткости» автора, о свежести, изобретательности, а в некоторых случаях и изысканности его языка. Вот один из примеров:
(1й акт. Танец с шалями)
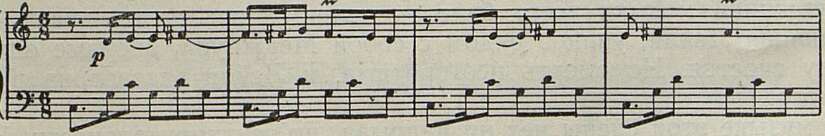
Мелодия здесь на первый взгляд чисто ре-мажорная. Это подтверждается и окончанием пьесы в данной тональности. Появление в дальнейшем в мелодии до бекара указывает на то, что мы имеем дело с миксолидийским ладом. Однако именно этот до бекар и позволил композитору трактовать мелодию (в начале пьесы и в репризе) — в лидийском до мажоре, что придает ей своеобразное очарование.
В партитуре балета можно найти случаи (правда, очень редкие), когда автор позволяет себе применить приемы «полиладовости». Вот, например:
(1я картина. Танец Кайса и его друзей)
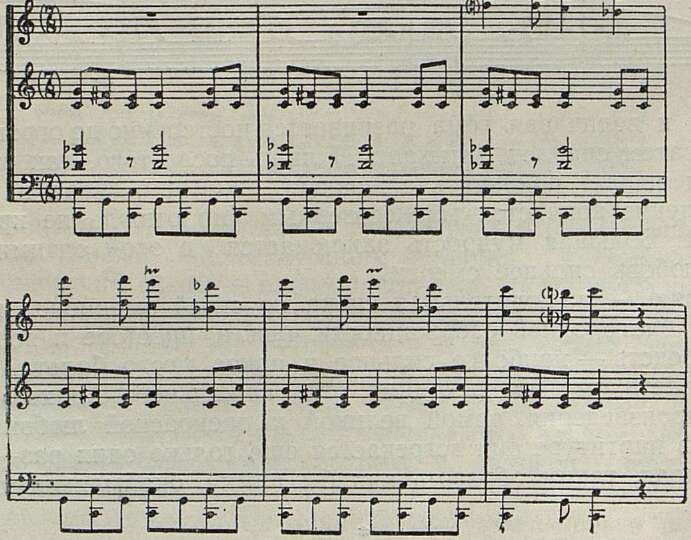
Нетрудно убедиться, что в двух нижних строчках мы имеем лад до, ре бемоль, ми, фа диез, соль, ля, си бемоль, а в верхнем голосе — лад фа, соль, ля, си, до, ре бемоль, ми, фа (звуки соль и ля, отсутствующие в приведенном отрывке, имеются в других местах этой пьесы).
Связь с фольклором сказывается и в метроритмической ткани произведения; особенно интересно в этом отношении часто применяемое композитором полиритмическое сочетание (в одновременности) метров 6/8 и 3/4, весьма характерное для таджикской народной музыки (как, впрочем, и армянской). Нередко Баласанян прибегает также и к несимметричным размерам — 5/8, 7/8 и т. п., причем внутри этих метров мо-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Песнь мира и дружбы 5
- Молодость поет 7
- Незабываемые дни 8
- Привет с далекой Кубы 8
- Хоры, ансамбли песни и пляски 10
- В добрый путь 10
- На конкурсе пианистов 12
- Большие перспективы 14
- Народные певцы 16
- Из дневника члена жюри 16
- Вопросы, волнующие народных инструменталистов 21
- Национальные оркестры 25
- О песнях и людях сибирского хора 28
- Белорусский оркестр 32
- Молодость — это смелость творческих дерзаний 35
- Наступит ли век теноров? 36
- Щедрость красок, мелодий, ритмов… 38
- Искусство китайских друзей 42
- Поют югославские студенты 44
- У истоков советской песни 46
- Симфония памяти Ленина 58
- Сергей Баласанян и его балет «Лейли и Меджнун» 63
- О музыке Георгия Свиридова 77
- От песни к симфонии 79
- Вокальный цикл С. Агабабова 83
- Молодые ленинградцы 87
- Бородин (черты стиля, приметы времени) 91
- Значение Моцарта для нашего времени 102
- Важное открытие грузинского ученого 111
- Оркестр и дирижер 115
- Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер 116
- Форум мировой музыки 123
- «Бал-маскарад» Верди в театре имени С. М. Кирова 129
- Киргизский оперный театр 134
- «Поцелуй Чаниты» 140
- Защитникам оперетты, как она есть 144
- Воан Уильямс 149
- Венская музыкально-театральная весна 155
- Письмо из Англии 160
- «Ревизор» на оперной сцене 161
- Два новых журнала 163
- Хроника 167



