И тем не менее, исторические примеры убеждают, что в действительности такой срок был более чем достаточен. Следующий по времени и еще более значительный по размерам театр в Москве был начат строительством в марте 1742 года, а в сентябре того же года в нем давались первые спектакли
Ускоренные темпы построек тех лет рождали характерное изменение последовательности строительных работ: в деревянных зданиях сооружение фундамента составляло, как правило, не первый, а завершающий этап. Сначала здание возводилось на деревянных же столбах. Эти столбы быстро подгнивали, перекашивались, и здание еще до завершения строительства давало осадку и перекосы. Современные строительные документы полны указаний на подобные осложнения. Дело же с подведением каменных фундаментов обычно затягивалось на долгие годы. Так было со строившимся в Моске следующим по времени театром на Яузе, так было и с Комедиантским домом. К тому же непосредственная близость двора и самой императрицы во время строительства последнего иключали всякую возможность проволочек. С другой стороны, анализ широкого круга документов тридцатых годов показывает, что в Комедиантском доме мы сталкиваемся не с недостроенным «театром», а с специфическим устройством сценической площадки тех лет.
Как известно, важнейшей составной частью любого театрального представления первой половины XVIII века были эффекты, достигаемые с помощью очень сложных «машин». Сцена, вне зависимости от того, была ли она сооружена в одном из дворцовых зал или же являлась стационарной в специально построенном помещении, не имела единого и постоянного механического устройства. Для каждого представления сооружалась своя «машина», соответственно иначе размещавшаяся на сцене и требовавшая разборки пола. Поэтому полы «на театре» делались разборными.
На открытые балки накладывались специальные рамы из брусьев, а поверх них сколоченные щиты, дополнявшиеся отдельными, временно приколачиваемыми к рамам досками. Чтобы щиты и главным образом доски не прогибались, под них подставлялись специальные небольшие козлы. Все это тщательно подогнанное к сценической площадке оборудование очень ценилось. В то время, как «машины» делались на один спектакль и, как правило, после него разбирались, набор для пола — собственно «театр» оставался один и тот же. В случае прекращения представлений он убирался в кладовые и хранился в числе остального театрального реквизита.
Именно такого типа «театр» и был в Комедиантском доме2. Иными словами, сцена Комедиантского дома была полностью оборудована, и сам по себе примененный в документе оборот «были в деле» служит лишним свидетельством того, что представления на ней шли. В качестве любопытного примера, характеризующего порядки, существовавшие в те годы в театре, можно привести то обстоятельство, что не только пол на сцене, но даже железные заслонки от печей после спектакля снимались и хранились в отдельных кладовых.
Какой же характер носили эти представления и кто их давал? Известно, что в 1731 году, когда Комедиантский дом в основном уже был закончен, в Россию по желанию Анны Иоановны приехала итальянская труппа. Она состояла из полного ансамбля комедии масок, нескольких певцов и инструменталистов. Поскольку первым по времени было указание о спешном строительстве московского театра, а последующим — о розыске за границей актеров, само по себе создание Комедиантского дома связывалось с идеей приглашения стационарной труппы. И когда эта труппа появилась, естественно предположить, что ей был предложен для выступлений специально построенный Комедиантский дом.
Архивные документы подтверждают пребывание первой итальянской труппы в старой столице. Приводившаяся выше «Опись комедиантского убору» содержит и описание имущества этой труппы, оставшегося после спектаклей в Москве.
Документ гласит: «... велено за отсылкою в санкт-петербург оставшегося в Москве после итальянских музыкантов театр и прочие к тому принадлежащие уборы которое имеется в сохранении архитектура Якова Брокета у жены ево по приложенной при том указе росписи принять и содержать оные уборы до указу в добром смотрении дабы оным уборам не учинилось какого повреждения; того ради по силе выше писанного ее императорского величества указу у показанной брокетши театр и протчие принадлежащие уборы по присланной при указе росписи принять двора ее императорского величества служителю Ивану Иванову...»1
Опись была составлена в апреле 1733 года и позволяет существенно пополнить представление о театре тридцатых годов.
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что среди театрального имущества присутствуют «пятнадцать налойцов на ноты простых малых» и к ним «двенадцать скамей деревянных малых», рассчитанных на двух человек каждая. Комедия масок, составлявшая ядро приехавшей группы итальянских артистов, не нуждалась в специальном музы-
_________
1 ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 81, 1742 г., № 41175.
2 В «Описи казенного комедиантского убору» 1733 года и последующих по времени инвентарях того же имущества находится подробное его описание: «в погребе доски и полы от театра — по щету досок елевых, которых в деле были 125; щитов, которые сколочены из досок, 40 рам, которые зделаны из брусков, 18 слег тесаных 25». (ЦГАДА ф. 1239, оп. 3, ч. 81, 1733 г. № 41122, л. 148).
1 ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 81, 1733 г., № 41122, л. 145.
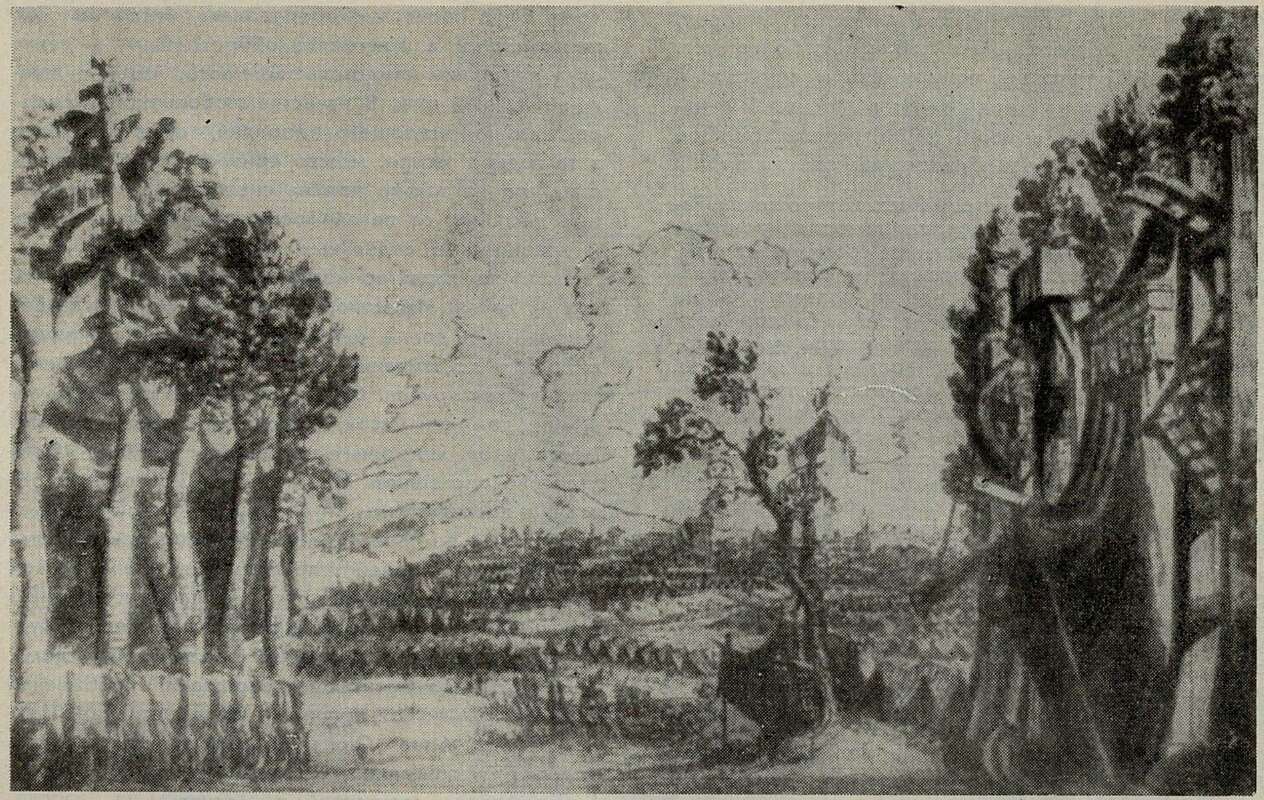
Д. Валериани. Проект декорации к опере «Селевк»
кальном сопровождении, тем более такого количества инструментов, которое можно определить как расширенный камерный оркестр. Это оборудование, как и специальные «медные шенданы» — подсвечники, крепившиеся к пюпитрам, были связаны не с ней, а скорее с самостоятельными музыкальными номерами. В составе труппы фигурируют имена двух инструменталистов — композитора и дирижера Д. А. Ристори, скрипача и композитора Верокайи. Не подвергалось сомнению, что при дворе имелись также штатные музыканты, но тем не менее этого явно недостаточно для имевшегося в Комедиантском доме оборудования.
Неожиданный ответ дает «Штат всем придворным чинам и служителям» 1731 года за личной подписью Анны Иоановны, в который входит список придворного оркестра на сорок с лишним человек1. При этом необходимо учесть, что штат был составлен в начале 1731 года, то есть до приезда итальянцев и, значит, упоминаемые музыканты не были с ними связаны. Иными словами, мы имеем дело с постоянным оркестром, существовавшим при русском дворе и, совершенно очевидно, имевшим собственную программу.
Оклады его музыкантов по существу не уступают тем, которые получали итальянские инструменталисты. Приводим оклады основных исполнителей оркестра: «Концертмейстер Яган Гибнер — 450 рублев, камор музыкант и композитер Андреяс Гибнер — 450 рублев, Яган Поморский — 292 рубли, Франц Румп — 180 рублев, Гиндрик Шварц — 150 рублев, Яган Готфрит разе — 150 рублей. Яков Медлин — 200 рублев, Юлиус — 140 рублев, Яган Брунц — 156 рублев, Бартоломеюс Шлаковский — 150 Рублев, Яган Штраус — 150 рублев, Кашпер Кугерт — 250 рублев, Яган Зеин — 140 рублев, Самойла Фатер — 150 рублев, Яган Клибер — 156 рублев, Георгий Поморский — 180 рублев, Яган Кернер — 180 рублев, Тобияс Михлер — 180 рублев». Косвенные указания позволяют считать, что в основном это была смычковая группа. За ней шел получавший такой же высокий оклад, как и первые музыканты оркестра, Яган Ридель — 450 рублей и ученик при концертмейстере Гибнере — 50 рублей.
Среди этой части оркестрантов должен был находиться и органист. Орган входил в имущество почти всех императорских дворцов тридцатых годов.
_________
1 ЦГАДА, ф. 14 (Разряд XIV), 1731 г., № 29. л. 8 и об.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Вдохновляющие перспективы 5
- С трибуны теоретической конференции 15
- С трибуны теоретической конференции 18
- С трибуны теоретической конференции 22
- От редакции 25
- Взглядом современника 34
- Романтическая устремленность 39
- Семь вечеров — семь спектаклей 43
- На студенческих спектаклях 55
- «Сказание о граде Китеже» в Большом театре 59
- Купюры и постановочная концепция 61
- Театр на Красной площади 66
- Забытый музыкант 74
- Будить лирическое чувство 78
- Образная речь педагога 83
- Ударные в современном оркестре 86
- Любовь слушателей обязывает 92
- Почему мы не согласны с Борисом Штоколовым? 94
- Двадцать один хор Шебалина 96
- Из дневника концертной жизни 97
- Подводя итоги... 101
- На подъеме 103
- Право слушателя — право художника 106
- Звезды должны быть ярче 107
- Почему пустуют залы? 109
- Композитор — исполнитель — слушатели 112
- Послесловие 118
- Софийский музыкальный 121
- Пламя за Пиренеями 125
- На музыкальной орбите 137
- Вклад в шуманиану 143
- Коротко о книгах 146
- Вышли из печати 148
- Грампластинки 148
- Новые грамзаписи 149
- Хроника 151



