сказывались и недостаток профессиональных знаний (ведь за спиной не было даже училища) и подорванное войной здоровье.
— Я по семь-восемь месяцев лежал в больницах, — вспоминает Леонид Викторович, — потом приходилось нагонять пропущенное, сидеть часов по 20 напролет над книгами. Да и сейчас, когда иной раз работаешь круглыми сутками, говорю спасибо летчицкой закалке.
Боевая молодость — ее невозможно забыть. Воспоминания о ней до сих пор вдохновляют композитора. Это память сердца. Именно так — «Память сердца» — назывался фильм об Отечественной войне, о спасении русской партизанкой английского летчика, которого сбили фашисты, — одна из лучших работ Афанасьева в киномузыке. Вновь и вновь обращается он к военной теме: в музыке к фильму «Самый медленный поезд», к спектаклю «Барабанщица» в ЦТСА, в песнях, хорах. Сейчас Афанасьев пишет музыку к фильму об отважных советских разведчиках (по пьесе Л. Шейнина «Игра без правил»). В прошлом году композитор закончил труд многих лет — Первую симфонию. Она посвящена летчикам — друзьям однополчанам. Недавно один из них, А. Комаровский, живущий сейчас в Кишиневе, прислал ему стихи, которые начинаются так:
Нас было двенадцать веселых друзей —
Первая эскадрилья...
И наверное, к традиционной встрече в честь Дня победы будет создана на этот текст заздравная песня. О первой эскадрилье. О крепкой, боевой дружбе. О том, что уже подрастают сыновья и тоже мечтают взлететь в мирное небо планеты.
Б. Терентьев
НА БОЕВЫХ КОРАБЛЯХ
Неужели уже двадцать лет, как кончилась война? Неужели двадцать четыре года прошло с того дня, когда явились мы с Е. Жарковским в Политуправление Северного флота с просьбой направить нас в действующий флот?..
Узнав, что мы композиторы, начальник Политуправления генерал-майор Н. Торик сказал: «Обучить бойца владеть винтовкой можно в сравнительно короткий срок, а для того, чтобы воспитать человека вашей профессии, нужны годы. Воюйте на флоте своим оружием».
Североморцы охраняли важнейший, самый короткий, водный путь в нашу страну; этим путем шла помощь союзников; здесь сторожили они наши морские ворота в Атлантический океан. Не случайно фашисты с такой яростью набрасывались на этот небольшой, но очень важный участок советско-германского фронта.
А Северный флот был еще совсем молодой. Рядом с отличными боевыми кораблями сражались тут утлые суденышки. Бывало так: на рыбачий корабль поставят маленькую пушку й скажут: «Сие есть тральщик». И уходят на таком тральщике моряки по заданному курсу, чтобы выловить, обезвредить мины или самим подорваться на одной из них, но расчистить путь большим кораблям.
На флоте нас считали вроде бы за политработников. Ходили мы на разных кораблях, случалось — брались за настоящее оружие. Писали песни. (Много песен сочинил я с поэтом Ярославом Родионовым, погибшим тогда же на Севере.) Одна из них — «Тельняшка», на слова А. Ойслендера, — напечатана впервые совсем недавно, а в ту пору любили ее петь моряки.
Впечатлений для творчества было хоть отбавляй. Разве забудешь поездку на батарею старшего лей-
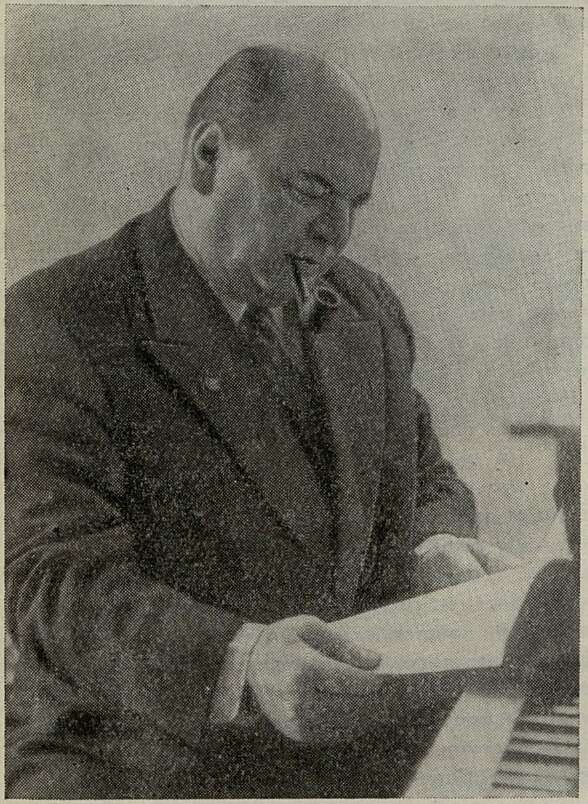
тенанта П. Космачева! Плыли в кромешной тьме на маленьком ботике, до отказа набитом боеприпасами и минами, по узкому Мотовскому заливу, насквозь пристрелянному фашистской береговой артиллерией. А на батарее ждала нас неожиданная радость — встретили земляков, москвичей. На маленьком клочке земли, где расположилась батарея, царила непривычная тишина... Собрались все тесным кругом, жадно ловили новости с Большой земли. О войне говорить не хотели, только потом дали в честь Москвы крепкие залпы по позициям фашистов. Артиллеристы Космачева вели бой под прямым огнем противника. Били по ним с земли, с кораблей, с воздуха. А они продолжали свое дело. Больше недели пробыли мы на батарее. И когда много позднее стало известно, что береговая артиллерия Северного флота потопила свыше тридцати транспортов противника, — мы вспомнили бойцов Космачева и не удивились этой внушительной цифре.
Сдружились мы со многими подводниками. Какие среди них были замечательные люди! И. Колышкин, Н. Лунин, И. Фисанович.
Особенно крепкая дружба связывала меня с Фисановичем. Он был чуть помоложе меня. Биографии наши только лишь начинались, и перед обоими вставало множество вопросов, на которые мы искали ответа, я — в музыке, он — в стихах. Мой друг почти никогда не расставался с тонкой ученической тетрадкой, в которую — одному богу известно — когда только успевал записывать свои стихи. Был он настоящим солдатом, постоянно стремившимся к боевому совершенствованию, храбрым, находчивым в бою, верным другом, бесконечно любящим жизнь, словом, подлинным коммунистом.
Виделись мы чаще всего на базе, когда подлодка стояла на ремонте или на снаряжении, в молниеносно мчавшиеся часы передышки. Иной раз по ночам вели задушевные беседы. О чем? О том, что ждет нас впереди. О том, какой станет жизнь через десять, двадцать лет после войны, о любимых спектаклях, книгах, стихах, еще и о том, какую чудесную морскую песню напишем мы когда-нибудь вместо. Фисанович не любил говорить о войне, а тем паче рассказывать о своих боевых подвигах. Только стороной я узнал, что за два года командования подлодкой он совершил восемнадцать боевых походов, потопил тринадцать вражеских кораблей общим водоизмещением в 73 000 тонн.
Те, кто служил на Северном флоте, слышали о смелых атаках Фисановича. Долго передавался тогда из уст в уста рассказ о том, как его подлодка проникла сквозь заграждение противника во вражескую гавань и дала торпедный залп по фашистскому транспорту. Урон был нанесен огромный, рассвирепевшие враги бросились наперерез подлодке. Искусно маневрируя, лодка двигалась под укрытие своих береговых батарей. Фашисты пустили в ход глубинные бомбы. Взрывы огромной силы следовали один за другим. Сначала на подлодке было выведено из строя освещение, потом заклинило горизонтальные и вертикальные рули, повредило глубиномеры и другие приборы. От непрерывного содрогания корпуса отказал компас. Положение стало угрожающим. В самый критический момент Фисанович с аварийным фонарем в руках обошел все отсеки и призвал личный состав бороться за живучесть корабля, бороться, сколько бы ни длилась атака противника. Она длилась десять часов. Одиннадцать заходов сделали на подлодку фашистские корабли, сбросив свыше 300 глубинных бомб!
И все же израненная лодка вернулась на базу. Моряков спасла железная выдержка командира. Когда об этом беспримерном подвиге узнали английские моряки, они попросили показать им карту маневрирования подлодки.
«Если б мне удалось совершить такой поход, — сказал один из бывалых английских моряков, — я бы на всю жизнь сохранил эту карту, как самую дорогую реликвию. Так мог действовать только герой». — «Ну что вы, — смущенно возразил Фисанович, — это же обычный поход».
И действительно, в боевой биографии Фисановича подобных походов было немало.
Я держу в руках листок из школьной тетради. Серо-желтая грубая бумага военных лет. А чернила совсем не выцвели. И каждая строка на этом листке стучится в сердце. Эти строки написаны Фисановичем больше двадцати лет назад. Однажды я уже пытался положить их на музыку. Но боль от утраты друга была слишком остра. Сейчас, мне кажется, песню надо написать иначе. Рядом с темой скорби здесь должно быть то, чем пронизано стихотворение Фисановича, — призыв к жизни и борьбе.
Добыв победу, вы погибли с честью,
И в вашу память мавзолей
На дне морском цементом нашей мести
Мы слепим из фашистских кораблей.
И память вечной вахты беспокоя,
От берегов родной земли
К другим краям над вашей головою,
Запенят только наши корабли...
Многое хочется сделать в уплату огромного нашего долга перед теми, кто геройски сражался и отдал свою жизнь за Родину. Вместе с поэтом Николаем Флеровым думаю о музыкально-поэтическом произведении с участием чтеца. Назовем мы его, наверно, «Песня родных морей».
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Служи, солдат!» 7
- Живая легенда 9
- Утверждение света 18
- «Это не должно повториться!» 24
- Песни партизанского края 26
- Два интервью 34
- «Сторонник Московской консерватории» 39
- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41
- Москва, 1941… 43
- По страницам дневника 46
- Радости и огорчения Саратовского оперного 51
- Одесские очерки 56
- Как ротный простой запевала 68
- В концертных залах 73
- Из автобиографии 86
- С чистой совестью 93
- Партизанка 95
- Советы мастера 99
- Педагогика — призвание? 107
- 25 дней в США 109
- «Военный реквием» Бриттена 115
- Народный художник 124
- Героизм и поэзия будней 131
- Солистка филармонии 134
- Будни музыкальной Праги 136
- «Катерина Измайлова» 142
- К истории «Моцартеума» 145
- Вена, май — июнь 145
- Русская Лиза 146
- Память сердца 147
- На боевых кораблях 149
- Слово фронтового журналиста 151
- Артисты-бойцы 152
- Во имя победы 155
- В борьбе за жизнь 158
- О тех, кто не вернулся 160
- Хроника 162



