Из военной песни
Л. Михайлова
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
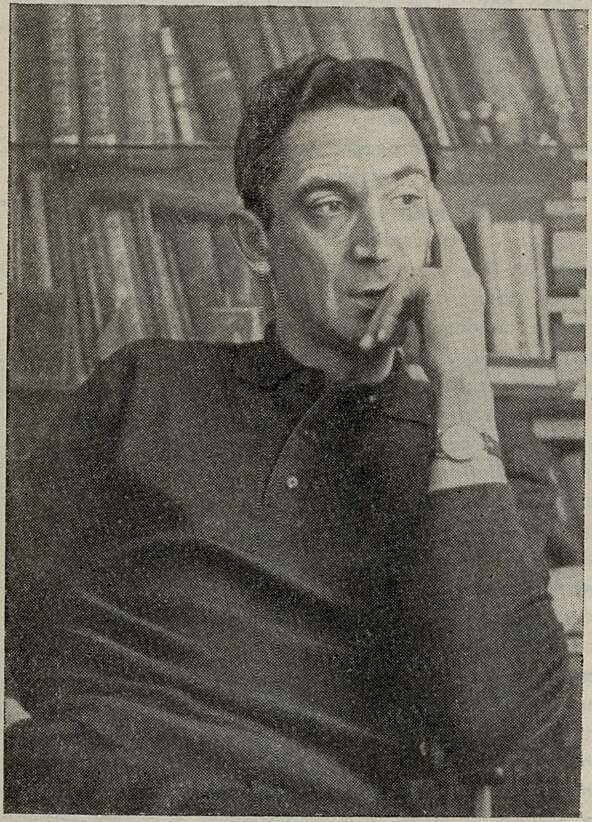
В комнате ничто не напоминает о боевом прошлом хозяина. Рояль с нотами на пюпитре. Домбра и теннисная ракетка. Маленький бюст Ленина и фотографии в момент «полета» на водных лыжах... Только когда Леонид Афанасьев начинает рассказывать о себе, понимаешь: война оставила в сердце этого человека неизгладимый след.
Встретил он ее, уже будучи летчиком; работал инструктором в авиационном училище. На фронт удалось попасть только в 1943 году. Ему и его товарищам было тогда чуть за двадцать, а они уже считались опытными пилотами. Афанасьев сразу стал заместителем командира эскадрильи.
В том же полку служил и Филипп Пархоменко (ныне солист Большого театра) — тогда командир звена. Вскоре они подружились. К концу войны оба стали командирами эскадрилий.
Четыре ордена и пять медалей — свидетельства нелегкого военного пути Афанасьева. Каждая из наград связана с ярким боевым эпизодом.
— Однажды, — рассказывает он, — мы получили срочный приказ на вылет. Задание — уничтожить скопление танков, которые угрожали штабу нашей крупной части. Я повел шестерку самолетов. Надо сказать, что к этому времени немцы здорово приноровились бить из танков по нашим штурмовикам. День склонялся к закату, темнело. К тому же туман, видимость плохая. Пришлось идти совсем низко над лесом (там замаскировались немецкие танки), чтобы вызывать огонь на себя. Только так можно было обнаружить противника. Долго мы кружили, почти потеряли надежду и решили уходить, как вдруг какой-то немец не выдержал: «шарахнул» по нас из пушки. Так мы их и нашли и, несмотря на плохую видимость, уничтожили шесть танков.
За эту операцию Афанасьев получил орден Красного Знамени.
Трудная фронтовая обстановка обостряла тягу людей к прекрасному. Смешно и грустно было вспоминать, что в детстве он ненавидел уроки музыки. Сейчас она скрашивала летчикам трудные военные будни.
— У нас в эскадрилье подобрались очень музыкальные ребята, — вспоминает Леонид Викторович. — Постоянно звучали песни. Когда кто-нибудь спрашивал: «Где первая эскадрилья?» — ему нередко отвечали: «Вон туда идите, где поют»... В полку и дивизии была хорошая самодеятельность. Обычно, когда к нам приезжала какая-нибудь бригада артистов, то сначала они нам концерт давали, а потом мы им. Артисты все удивлялись, когда мы успеваем заниматься искусством!
Однажды в период наступления Орша — Смоленск — Борисов, когда мы стояли очень близко к передовой, в полк приехала концертная бригада.
Только она кончила выступать — нам пора вылетать на задание. Но тут командир полка, которому очень понравился концерт, захотел сфотографироваться вместе с артистами и пилотами возле своего самолета. Надо сказать, что у летчиков есть свои традиции. У нас в полку, например, перед вылетом считалось дурной приметой бриться (если раньше не успел, так и лети небритый) и фотографироваться. Долго артачились ребята, наконец построились и сфотографировались. Мрачный Филипп Пархоменко сказал: «Все равно кто-нибудь упадет». И правда. «Упал» я.
Произошло это так. Расчехвостили мы немцев здорово, стали уходить. Идем низко, чувствую, что и без того тяжелая машина все тяжелеет. Еле-еле перетянул линию фронта, и тут, на высоте 15–20 м., у меня отказал мотор. Кричу по рации: «Сажусь! Посмотрите, нет ли вокруг истребителей?!» А уж когда тут смотреть! Помню только свист проводов — и перед глазами полоса земли, мягкая пахота, а совсем близко бегут какие-то люди. Успел сказать своему стрелку, чтобы держался покрепче, — и удар... Самолет стал закапываться в распаханную землю, летит пыль, грязь, я держу ручку штурвала (ее саксофоном называли), а она меня не слушается — ведь громадная сила инерции! — и бьет по лицу. Наконец остановились метрах в 15 от людей. Оказалось, ни много ни мало — чуть не врезались в склад бомб. Вылез я, а стрелок, молодой совсем парнишка, Саша Кошелев, увидел мою физиономию — вместо носа кровавая каша, да вся в грязи — и в слезы... Часа через четыре, прямо к разбору летнего дня, вернулись мы в полк. Уж и ругался я на командира, позабыв субординацию...
В общем-то он был «везучий»: до середины 1944 года ни одного серьезного ранения. Но вот 3 июня полк перебросили в освобожденный Минск. Экипажи разместились в небольшой пригородной деревушке. Усталые летчики, попав в уютную деревенскую хату, на чистые кровати (давно уж не приходилось спать в постелях!), тут же крепко заснули. Разбудил их страшный грохот. Кругом полыхало. Немцы бомбили не аэродром, находившийся по соседству, а деревушку, где расположился летный состав (видимо, заранее был заброшен корректировщик). Сельская улица превратилась в ужасное кровавое месиво. Горели хаты, кричали обезумевшие люди, а сверху сыпались «лягушки» — бомбы, которые при ударе о землю подскакивали и рвались уже в воздухе.
— Много видел я бомбежек, — говорит Афанасьев, — но эту не забыть никогда. Выскочив из горящей хаты (потом оказалось, что в ней сгорели все мои документы), я стал собирать своих. Вдруг хватился, что нигде нет Филиппа. Вернулся в хату — так и есть, спит! Еле растолкал его. Единственная возможность укрыться — траншеи, вырытые на окраине села, в поле. По саду, обезумев от страха, бегала хозяйская девочка. Схватил я ее на руки и побежал к укрытию. Она вырывается из рук, кричит не своим голосом. Все-таки вырвалась и побежала вперед по траншее. Слышу — падает новая серия бомб. Так и осталось у меня перед глазами желтое платьице девочки, бежавшей прямо туда, в смерть. Потом — взрыв... Мне тогда осколком перебило позвоночник и сильно контузило. Ощущение было такое, будто я вишу в воздухе и тихо-тихо, как при замедленной съемке, падаю вниз. Нашел меня и вытащил наш летчик, Вася Чукреев. От всей моей эскадрильи осталось в живых еще пятеро, причем двое были тяжело ранены, а меня уже считали пропавшим.
До января 1945 года Афанасьев пролежал без движения. Когда окончательно поправился, выписали его, что называется, подчистую. Но он стал добиваться возвращения в полк, доказывал, что ему необходимо удостоверить свою личность, так как все его документы сгорели.
— Как добирался я до своего полка, долго рассказывать. Разыскивал его чуть ли не по всей Прибалтике. Вид у меня был, прямо скажем, не внушающий доверия: в солдатской шинели без погон, в старых сапогах огромного размера, которые сваливались с ног. Однажды меня едва не расстреляли, приняв за шпиона... Но полк свой все-таки нашел. В штабе первыми на меня кинулись с радостным криком и слезами девчата: «Ленька Афанасьев вернулся!» Собралось еще несколько человек, все ревут. Тут и я не выдержал... Некоторое время жил в полку на положении курортника. «Ты, — сказал мне командир полка, — поживи у нас, отдохни, а потом поедешь домой». В это время началось крупное наступление — последнее январское наступление 1945 года. Летчики в полку — все зеленая молодежь, а я — отдыхаю. Не выдержал и начал потихоньку от начальства летать. Левая нога у меня еще не работала, чтобы она не очень мешала мне во время полетов, приспособили систему затяжных ремней. К удивлению окружающих и моему собственному, все шло отлично. Бывало, правда, так: три-четыре дня летаю, неделю — лежу. И все-таки долетал до победы.
Но после окончания войны Афанасьева ожидало еще одно нелегкое испытание: врачи категорически запретили ему заниматься летным делом. Надо было искать что-то другое. И он обратился к музыке. Поступил в Алма-Атинскую консерваторию, в класс профессора Е. Брусиловского. Вот когда пригодились ему некоторые качества, воспитанные его бывшей профессией: сила воли, умение преодолевать препятствия. А одолевать приходилось многое:
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Служи, солдат!» 7
- Живая легенда 9
- Утверждение света 18
- «Это не должно повториться!» 24
- Песни партизанского края 26
- Два интервью 34
- «Сторонник Московской консерватории» 39
- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41
- Москва, 1941… 43
- По страницам дневника 46
- Радости и огорчения Саратовского оперного 51
- Одесские очерки 56
- Как ротный простой запевала 68
- В концертных залах 73
- Из автобиографии 86
- С чистой совестью 93
- Партизанка 95
- Советы мастера 99
- Педагогика — призвание? 107
- 25 дней в США 109
- «Военный реквием» Бриттена 115
- Народный художник 124
- Героизм и поэзия будней 131
- Солистка филармонии 134
- Будни музыкальной Праги 136
- «Катерина Измайлова» 142
- К истории «Моцартеума» 145
- Вена, май — июнь 145
- Русская Лиза 146
- Память сердца 147
- На боевых кораблях 149
- Слово фронтового журналиста 151
- Артисты-бойцы 152
- Во имя победы 155
- В борьбе за жизнь 158
- О тех, кто не вернулся 160
- Хроника 162



