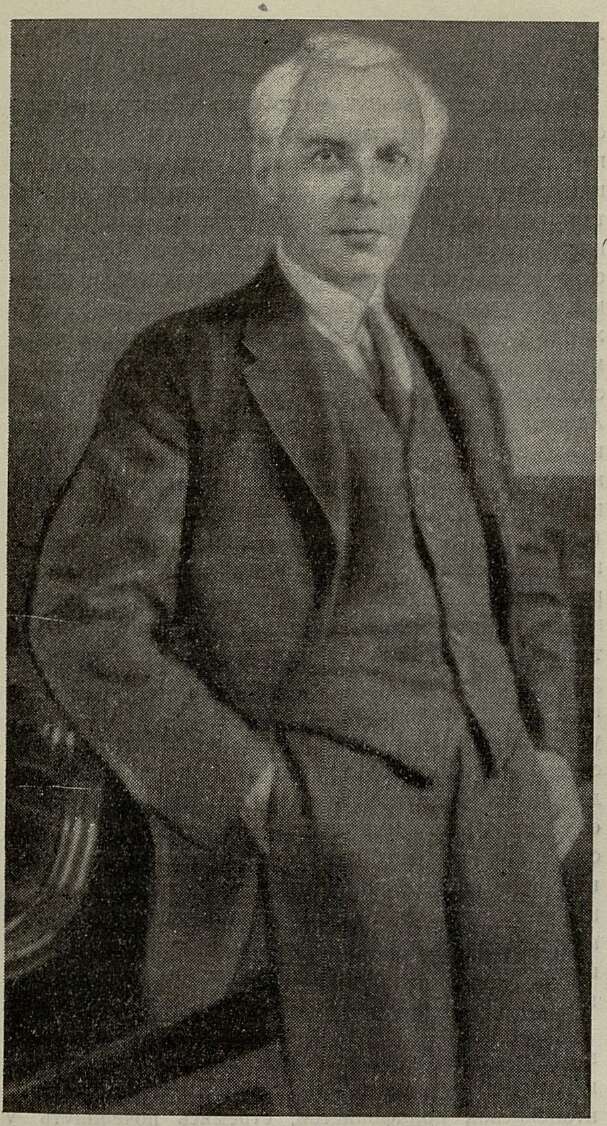
с азиатского континента, выражающий земное, стихийное начало и вступающий в единоборство с развращенной и преступной средой цивилизованного города. Здесь «натурфилософия» Бартока обретает свое, пожалуй, наиболее откровенное и сильное художественное претворение.
Всемогущие силы природы играют решающую роль в сказочном сюжете «Деревянного принца»: деревья, цветы, ручейки всякий раз вмешиваются в судьбы героев, то препятствуя, то дружески содействуя их стремлениям. И конечно, пренебрежение законами природы жестоко мстит героине балета — имеется в виду крах иллюзий ветреной Принцессы, которая отвергает естественное чувство Принца ради эфемерного увлечения безжизненной куклой.
Наконец мотивы «антибуржуазной романтики», преклонения перед очищающей силой природы совсем по-иному воплотились в сказочной аллегории «Светской кантаты»: двенадцать богатырей, обернувшись оленями, навсегда отвергают все блага отчего дома, чтобы обрести счастье в полном слиянии с нетронутой лесной природой.
Прямые воздействия той же «натурфилософии» заметны и в некоторых типичных для Бартока инструментальных концепциях, например в драматургических замыслах «Музыки для струнных», Сонаты для двух фортепиано, Концерта для оркестра: от тягостных рефлексий и душевных смятений — к постепенному преодолению личных невзгод и радостному слиянию с народной массой, охваченной бурной радостью коллективного танца. Между этими двумя полюсами (субъективные переживания автора и объективный мир народного ликования) нередко заключен третий важнейший компонент бартоковской драматургии — поэтический звуковой пейзаж ночной природы, как бы освежающей и очищающей душу героя. Естественное, творческое начало, коренящееся в стихийной мощи природы и художественном гении трудовых масс, способно победить индивидуализм, одиночество, духовную немощь современного человека, задыхающегося в гнилой атмосфере буржуазной «цивилизации» — таков оптимистический вывод, утверждаемый во многих зрелых опусах венгерского мастера.
Не скроем: несколько наивная «натурфилософия» Бартока («назад к природе!») кажется явно «несовременной» в эпоху величайших социально технических переворотов XX века. Возникают неожиданные параллели то с мелкобуржуазной натурфилософией Жан-Жака Руссо, то с романтически-стихийным утопизмом Фейербаха или с религиозно-крестьянским анархизмом Льва Толстого (кстати говоря, высоко почитаемого Бартоком). И у них та же боязнь разрушающих воздействий городской цивилизации, то же воспевание духовно чистой сельской жизни, якобы не знающей противоречий, благодаря неразрывному слиянию с природой. Можно было бы признать эти взгляды Бартока каким-то случайным анахронизмом, если бы сходные суждения не встречались и у ряда других крупнейших поэтов и мыслителей той переломной поры (в частности в России).
О крушении буржуазного гуманизма, о пробуждении свежих «варварских» сил, идущих на смену одряхлевшей культуре Запада, писал в своих эстетических работах поэт Александр Блок1. Он, как и Барток, сетовал на то, что в современной Европе «утратилось равновесие между человеком и приро-
_________
1 См. его статью «Крушение гуманизма», опубликованную в 1919 году (Соч., т. VI, стр. 93, 1962).
дой», что так называемые «цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность». Поэт сравнивал современную цивилизацию с «вырождающимся аристократом», призывая вернуться к «музыкальной сущности мира — к природе, к стихии»; он мечтал о том, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной... Оздоровляющее, спасительное начало Блок видел в растущей активизации «варварских масс», «которые до сих пор не были причастны европейской культуре». Он прямо утверждал, что «варварские массы оказываются хранителями культуры, не владея ничем, кроме духа музыки...»
Как близки эти суждения к эстетической натурфилософии Бартока, который мечтал оздоровить иссякающее искусство XX века с помощью неистраченных стихийных сил, таящихся в фольклоре «малых народов»! Бартоковский культ архаического примитива, любование первобытной «азиатчиной», скрытой в старинных пластах мадьярского (или румынского) фольклора, вызывает в памяти дерзкое «скифство» Блока, противопоставляющее себя анемичной культуре Запада. Мотивы возвращения к первозданной стихии «варварства» были характерны, как известно, и для русских поэтов-акмеистов (Гумилев, Городецкий), и для молодых русских композиторов предреволюционной поры («Весна священная» Стравинского, «Скифская сюита» Прокофьева). Страстные выпады против ненавистной городской «цивилизации», против железной поступи машин были заключены в стихах русских крестьянских поэтов, в частности талантливейшего Сергея Есенина.
Барток, как и названные русские художники, верно ощущал смертельный кризис буржуазной цивилизации, канун ее краха; однако всем им явно недоставало столь же сильных позитивных решений: они с неясной надеждой (или страхом) воспевали некоего мифического «варвара», призванного обновить мир; и никто из них не смог увидеть приход нового подлинного хозяина земли, революционного пролетария. Именно ему, а не выдуманному первобытному «скифу» предстояло разрушить старый мир и заложить основы новой истинно гуманистической культуры. В непонимании этой исторической закономерности заключалось основное противоречие бартоковской эстетики. В то же время его антибуржуазный бунт в какой-то степени отразил стихийную ненависть крестьянских масс к «железному молоху» капитализма. Тесная связь с искусством этих трудовых масс, настойчивое стремление опереться на их коллективный художественный опыт и почерпнуть в нем «живую воду» музыкального новаторства составляет драгоценное и непреходящее свойство его творческих устремлений.
*
Многие современники — особенно в Венгрии — рассматривали искусство Бартока лишь как дерзновенно разрушительное, анархическое, безоговорочно рвущее с традициями. «Он известен как дерзкий бунтарь, как фанатический приверженец гипермодернистского направления, — писала о нем будапештская газета 1910 года. — Это отталкивающее, надуманное уродство способно вызвать только раздражение и огорчение по поводу того, что такой несомненно гениальный человек стал жертвой эстетических капризов, поддался поветрию разрушения»1. Авторы подобных уничтожающих оценок не хотели и не могли услышать в творчестве выдающегося новатора новые важные закономерности, приходившие на смену отмиравшим академическим нормам. (Точно так же был встречен — в те же предвоенные годы — и молодой Сергей Прокофьев, в чьей музыке русская консервативная критика не замечала ничего, кроме раздражающих диссонансов и злобно-издевательского «гротеска».) Между тем Барток, подобно другим выдающимся композиторам своего поколения, не только «разрушал» старое, но и настойчиво утверждал новое, упорно развивая и обновляя классические традиции. Негативная, отрицающая тенденция его искусства была направлена лишь против отдельных излишеств позднего романтизма, и в частности против модного вагнерианства с его повышенной чувственностью и гипертрофированной роскошью хроматизированных гармоний. («Преувеличения позднего романтизма, — писал он, — становились невыносимыми... И не было другого выхода, кроме полного разрыва с XIX веком»2.)
Через головы своих непосредственных предшественников он обращался к наследию величайших классиков прошлого — Баха, Бетховена, старых итальянских полифонистов, стремясь почерпнуть у них стимулы для творческого новаторства. Из композиторов более близких эпох его особенно привлекали двое — Ференц Лист, заложивший фундамент новой венгерской школы, и Клод Дебюсси, открывший пути к широкому обновлению выразительных ресурсов музыки XX века. В своей беседе с французским музыковедом Сержем Моро (1939) Барток прямо называет имена трех классиков, сыгравших наиболее значительную роль в формировании новой венгерской школы XX века, — Бах, Бетховен, Дебюс-
_________
1 Из рецензий, помещенных в газетах «Pestev Lloyd» и «Pesti Naplo» (цит. по книге Лайоша Леснаи, стр. 93 и 89). Парадоксально, что эти крайне раздраженные отзывы относились к сравнительно умеренным ранним сочинениям Бартока (Первый квартет, Вторая оркестровая сюита).
2 Из статьи Бартока «О влиянии крестьянской музыки на музыку нашего времени» (1931).
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Слушайте Ленина!» 7
- Патетическая симфония 9
- Из архивов Н. К. Крупской 20
- Победа Стеньки Разина 24
- Поэтичные страницы 28
- Грузинские впечатления 32
- Опера сегодня 37
- В прениях выступили 46
- Размышления после премьеры 55
- Встречи и размышления 58
- Широта устремлений 63
- Из воспоминаний 67
- Чудесный дар 69
- Ефрему Цимбалисту — 75! 71
- Первая виолончель Франции 73
- В концертных залах 76
- Спустя полвека 86
- В поисках нового языка 92
- Реплика В. Брянцевой 95
- Без единого руководства 97
- Письмо из Тувы 99
- Мировоззрение и эстетика 101
- Воспитание музыкой 114
- По системе Кодая 117
- Софийские встречи 126
- На музыкальной орбите 135
- Труд большого ученого 142
- «Близнецы» 145
- Нотография 149
- Новые грамзаписи 150
- Хроника 151



