Решение образа Дулькамаре иное. Странствующий шарлатан при всей элегантности и нарядности своего костюма дан как фигура условная, выпадающая из общего бытового плана. Движения и жесты Дулькамаре мягки, увертливы и почти невесомы; он, как воздушный шар, переносится с места на место, и хотя его плутни вполне конкретны, он подчас кажется существом фантастическим. Это подчеркивается и бутафорским возвышением, с которого Дулькамаре рекламирует свои изделия, и еще более озорно-бутафорской лошадкой, увозящей героя в дальнейшие странствия.
В такой трактовке, где используются и элементы сценической условности, и конкретные бытовые штрихи, идея победы истинного чувства над капризами, тщеславием и корыстью выступает ненавязчиво, без всякой дидактики.
В таком же «смешанном» плане выдержано и оформление художника А. Лушина. Оно несколько нарочито наивно: узенькие арки, украшенные висящими на нитках цветными помпонами, легонький, словно склеенный из цветной бумаги помост посреди сцены, детски прямолинейные очертания окружающих его домиков — все это носит карнавальный, как бы игрушечный характер. Но в ночной сцене все меняется: простор моря, сменяющий пейзаж деревенской улицы, иное освещение — и сцена проникается духом поэзии. Ощущение условности остается и тут. Художник вовсе не стремится создать иллюзию морской шири; наоборот, он сохраняет от предыдущей декорации фактуру ткани, благодаря которой любой пейзаж кажется вышитым по канве. И все же романс Неморино, едва ли не лучший номер всей музыки, получает необходимое для него романтическое обрамление.
Итак, спектакль явно удался, тем более, что в нем наряду с изобретательностью присутствуют чувство меры и вкус, без которых невозможно новое прочтение классической оперы. Как будто придраться не к чему. Однако на протяжении действия не раз ловишь себя на том, что чего-то в решении оперы не хватает. Эта мысль усиливается в особенности после спектакля, уже на некотором от него отдалении. И тогда начинаешь понимать, что не хватает чего-то очень важного, такого, что могло бы озарить все гораздо более ярким светом, придать спектаклю больший вес и содержательность. Мы имеем в виду то волшебство вокальных и инструментальных красок, без которого итальянская опера, а тем более опера Доницетти, во многом утрачивает свою художественную ценность. Что ж, следует признаться: привычка к сложному симфонизированному письму наших композиторов, к свободному сочетанию декламационного и ариозного начал в русских вокальных партиях долгое время заставляла нас относиться с предубеждением к итальянской виртуозной манере, как к чему-то рутинному, лишенному психологического содержания. Но не пора ли взглянуть на нее объективнее, попытаться вникнуть в смысл и силу этой, казалось бы, давно ушедшей в прошлое традиции. Трели, рулады, скачки, соревнование голоса с оркестровыми инструментами, «сладостное» слияние голосов в ансамбле — ведь в итальянской классике это родилось и сложилось как осмысленная драматическая речь — речь, согретая сердцем и интеллектом, а отнюдь не только стремлением к внешней эффектности. Эта речь условна? Да, условна. Но почему-то она и по сей день во всех деталях понятна самому широкому слушателю. Вокальный образ — это сочетание красоты тембра и кристально чистой вокализации с одухотворенным исполнением мельчайших виртуозных деталей оказывается столь впечатляющим, что подчас заставляет забыть и о недостаточном внешнем соответствии исполнителей облику героев и героинь, а иногда и беспомощность так называемой актерской игры или мизансцен. А оркестр, тот типично итальянский оперный оркестр, который принято называть «большой гитарой»? Ведь функция его тоже может раскрыться по-иному, если учесть тончайшие, можно сказать, деликатнейшие соотношения его с вокальными партиями.
Вот этого рода драматургии и недостает возрожденному на нашей сцене «Любовному напитку». Особенно обидно, что это относится не только к второстепенным, но и основным персонажам — к той же Писаренко: так четко прорисовывается ее внешний облик, взгляд, изящество движений, и такое неясное впечатление остается от самого вокального исполнения. Разве можно играть, например, концерты Моцарта так, чтобы слушатель не ощутил филигранности и певучего очарования пассажей? Или исполнять сонаты Скарлатти, стараясь «притушить» их смелую виртуозность? Разве в данном случае трели, стаккато и скачки — не такая же неотъемлемая душа музыки Доницетти, как и его кантилена?
Вопросы эти возникают не случайно. Ведь уже в моцартовском спектакле «Так поступают все» мы столкнулись с недостаточным вниманием к вокальному своеобразию партий. Мы всячески приветствуем то, что Театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко стремится расширять жанровые и стилевые границы своего репертуара. Но эта крайне плодотворная тенденция предъявляет к нему все возрастающие требования. Коллектив талантлив, способен справиться с любой задачей, и очень хотелось бы, чтобы на ближайшем этапе он поставил перед собой такую сложную и интереснейшую проблему, как проблему создания вокального образа в разных оперных стилях.
Мастера об искусстве и о себе
Б. Хайкин
ВСТРЕЧИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
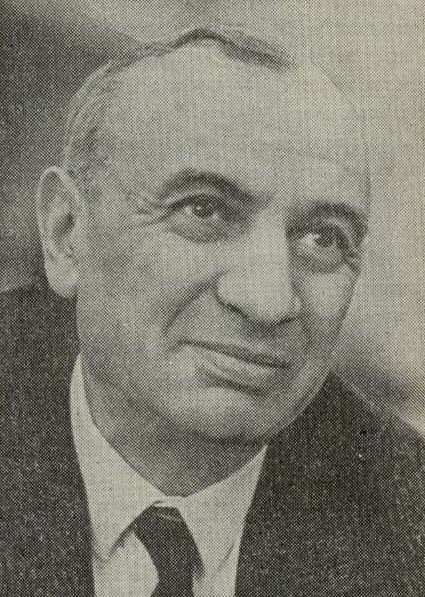
В 1924 году К. Сараджева пригласили руководить очень хорошим самодеятельным симфоническим оркестром, собиравшимся два раза в неделю в Московском Ломоносовском институте. Сараджев взял на себя эту «нагрузку», не скрывая, что в данном случае его особенно привлекает возможность постоянной практики для учеников. Вскоре он назначил меня основным дирижером этого оркестра. Теперь я вспоминаю с чувством искренней благодарности и инициативу Сараджева, и коллектив, в котором проводили свой досуг профессора и преподаватели московских вузов, горячие любители музыки, так тепло и доверчиво встретившие меня, начинающего маэстро, делающего свои первые робкие шаги. Сорок лет тому назад, в конце 1924 года, состоялся мой первый концерт с этим оркестром. С тех пор я постоянно выступаю с лучшими симфоническими оркестрами в Москве, в Ленинграде, в зарубежных странах.
А в декабре 1927 года я впервые продирижировал оперой. Это была «Хованщина» — консерваторский студенческий спектакль. Поставил его В. Нардов, родной брат О. Книппер-Чеховой, артист Большого театра, тонкий художник, умный и очень знающий педагог (о нем я, возможно, позднее расскажу поподробнее). Для студентов этот спектакль являлся выпускным экзаменом. Шел он в Большом зале. В ту пору оперные спектакли консерватории давались только два-три раза, к концу учебного года. Не было оперной студии, не было постоянной оперной практики. Это, конечно, плохо. Но зато к моменту выпуска спектакля мобилизовалась вся консерватория, выпускная постановка являлась событием, привлекавшим широкое общественное мнение. Спектакли не носили будничного характера, не находились на отлете (как это имеет место сейчас). Это, конечно, было очень хорошо!
Еще до этого спектакля меня очень влекло в оперу. С замиранием сердца я переступал порог Большого театра (иногда для того, чтобы проникнуть в зал, приходилось прибегать к не вполне «корректным» приемам, но что делать!). Не жалел времени для занятий с молодыми артистами, эти занятия приносили обоюдную пользу. Проигрывал клавиры, стараясь при этом петь все вокальные партии (какое счастье, что тогда еще не было пластинок!).
А в 1928 году, против всяких моих ожиданий, К. Игумнов, тогда директор консерватории, сказал, что меня захотел привлечь к работе в качестве дирижера К. Станиславский. И вот с осени я начал работать в молодом еще оперном театре, душой которого был Константин Сергеевич. С тех пор и по настоящее время я работаю в опере.
В оперном театре прошла вся моя жизнь, причем нередко я находился в таких условиях, что именно
_________
Продолжение. Начало см. в № 9 «Советской музыки» за 1964 год.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Слушайте Ленина!» 7
- Патетическая симфония 9
- Из архивов Н. К. Крупской 20
- Победа Стеньки Разина 24
- Поэтичные страницы 28
- Грузинские впечатления 32
- Опера сегодня 37
- В прениях выступили 46
- Размышления после премьеры 55
- Встречи и размышления 58
- Широта устремлений 63
- Из воспоминаний 67
- Чудесный дар 69
- Ефрему Цимбалисту — 75! 71
- Первая виолончель Франции 73
- В концертных залах 76
- Спустя полвека 86
- В поисках нового языка 92
- Реплика В. Брянцевой 95
- Без единого руководства 97
- Письмо из Тувы 99
- Мировоззрение и эстетика 101
- Воспитание музыкой 114
- По системе Кодая 117
- Софийские встречи 126
- На музыкальной орбите 135
- Труд большого ученого 142
- «Близнецы» 145
- Нотография 149
- Новые грамзаписи 150
- Хроника 151



