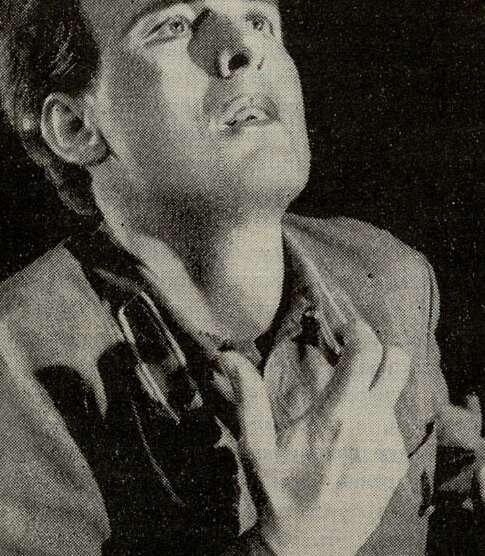
Муса Джалиль — А. Аббасов
ство и верность долгу противопоставлены трусости и предательству. И, наконец, еще одна сюжетная линия играет существенную роль в раскрытии образа главного героя — столкновение пленных с Джалилем, для службы делу одевшего вражескую форму.
Эти три тесно связанные между собой конфликта композитор последовательно раскрывает средствами музыкальной драматургии. Образ поэта создан всей совокупностью богатых и разнообразных выразительных средств: яркие и емкие оркестровые характеристики, ариозо, песни, монологи, ансамбли, развернутые сцены. Главное, что делает сложный многоплановый образ поэта жизненным и цельным, симфонизм мышления композитора, одним из наиболее ярких проявлений которого в данном случае является интенсивное лейтмотивное развитие.
Наконец музыкальная лексика оперы — живая, современная, динамичная. Основанная на татарской народной песенности, она в то же время отражает характерную для нашей эпохи тенденцию взаимообогащения различных национальных культур: органично включены в оперу элементы русского напева, романса, солдатской частушки. Песенность выступает как отличительное свойство сочинения, как источник его тематизма.
Своеобразие композиторского замысла «Джалиля» требует от постановщика прежде всего глубокого изучения партитуры, проникновения в тончайшие особенности интонационных конфликтов, поисков путей к сценическому выявлению музыкальных образов оперы, их динамичного развития.
С этой точки зрения постановка режиссера Г. Ансимова, дирижера И. Шермана и художника Н. Золотарева содержит немало спорного.
Сама повествовательная форма — оживающие в памяти поэта картины жизни — предопределяет необходимость крайне лаконичного, а порой и условного сценического решения. Не случайно по этому пути пошли (в разном конкретном проявлении) почти одновременно и независимо друг от друга режиссеры Б. Покровский и Г. Миллер, художники Э. Ногаев и В. Рындин в первой казанской и московской постановках, режиссер Ладислав Штрос и художник Кветослав Бубеник в Праге.
В постановке Ансимова эпизоды первой картины — сцена с женой и ребенком, дуэт, прощание с родной Казанью — из-за сугубо бытового оформления и решения (соседка или домработница с дочкой поэта на руках рядом с женой Джалиля, натуралистически пестрая толпа на вокзале и т. д.) выглядят приземленными. Может быть, меньше нареканий было бы в адрес режиссера, если бы в памяти невольно не возникали эти же эпизоды в постановке Покровского — мягкие, лирические картины, высвеченные в непроглядной тьме Моабитского застенка. Одинокое дерево, силуэт Казанского кремля, загорающиеся на темном небе звезды — все детали сценического решения гармонически сливались с поэтичной музыкой.
К сожалению, Ансимов слишком «независим» от партитуры, а порой и от поэтического текста оперы. Так, стремление режиссера «овеществить» симфонический эпизод «Бой» с помощью сценического действия (пробегающие группы бойцов, вспышки выстрелов и т. д.), «разъяснить» конфликт музыкальных образов только рассеивают внимание слушателей и снижают впечатление от симфонического обобщения, каким является этот антракт между третьей и четвертой картинами.
Режиссер стремился с помощью действия «расшифровать» и хор-вокализ, вводящий в четвертую картину. Гневом, решимостью и одновременно скорбью пронизана мелодия хора, устрашающе механистично «наступает» остинатный ритм оркестра, глухо и зло звучит скупой остинатный мотив бас-кларнета. Тема гнета «борется» с лейтмотивом сопротивления, народной силы. Ранее этот эпизод исполнялся до открытия занавеса, как бы вводя в атмосферу четвертой картины. Теперь его иллюстрирует пантомима — падающие от усталости пленные.
В этой же, четвертой картине, богатой напряженным психологическим действием, режиссер, руководствуясь трудно объяснимыми причинами, счел возможным передать некоторые реплики Джалиля другим действующим лицам. В результате героическое решение бороться с фашизмом в обличии предателя принимает не сам поэт, его подсказывают ему друзья. Вероятно, это изменение продиктовано желанием подчеркнуть роль и значение людей, окружающих Джалиля. По либретто, друзья были готовы поднять в лагере восстание и ценой своей жизни дать возможность Джалилю бежать. Разве этого недостаточно? Зачем было перекраивать на свой лад не только внешнюю сюжетную канву, но и психологический рисунок ролей? Ведь раздумьям, колебаниям, сомнениям, предшествовавшим решению поэта, придано в музыке большое значение. В партитуре выстраданное, обдуманное решение поэта, завязка нового «ложного» конфликта Джалиль — народ знаменует появление нового лейтмотива подвига и трагической судьбы Джалиля (близкого основной теме поэта и выросшего из ее кульминационных интонаций). Уже потому смысловое изменение, внесенное режиссером в литературный текст спектакля, находится в резком противоречии с логикой развития музыкального действия, с музыкальной драматургией оперы.
Позволив себе столь значительную вольность, Ансимов, естественно, отошел от партитуры и в более частных случаях. Так, проникновенно-лирическому характеру дуэта Джалиля и Журавлева (который является кульминацией большого диалога) противоречит введенная режиссером хоровая, «массовая» концовка сцены. Неоправданно режиссерское решение начала третьей картины. Из отдельных кратких мотивов, безжалостно обрываемая темой войны, с трудом вырастает хрупкая, прекрасная мелодия, олицетворяющая упорную волю к жизни тяжело раненного Джалиля. На сцене же герой выглядит таким бодрым и энергичным, что просто непонятно, почему же он оказался вдали от поля боя.
Трудно объяснить и некоторые купюры. Из шестой картины изъята поэтичная сцена мысленной встречи Джалиля в новогоднюю ночь с дочерью.
И здесь снова невольно вспомнилось удачное решение этого эпизода в Большом театре.
Удивляют и вызванные чисто техническими причинами (чтобы успел повернуться круг) повторения некоторых оркестровых фраз в отдельных эпизодах, явно ломающие музыкальную форму.
Несомненно, что каждый режиссер ищет свое творческое решение, обращаясь к любой, пусть даже знавшей сотни постановок, опере. Но, думается, в данной работе Ансимова стремление во что бы то ни стало уйти от трактовок предшествующих постановок, не иметь с ними никаких точек соприкосновения, найти свое, вопреки партитуре, в чем-то стало самоцелью. Только этим можно объяснить замену эпиграфов, найденных и данных в клавире автором оперы и ее первым постановщиком. Лаконичные цитаты из стихов Джалиля, определяющие главную мысль каждой картины, часто связаны с ее наиболее драматической ситуацией, последовательно сопровождают все картины оперы. Ансимов отказался от эпиграфов к четвертой, шестой и седьмой картинам, а в остальных случаях заменил их другими, менее лаконичными и целенаправленными. Так, пятая картина, кульминация которой — обвинение Джалиля в предательстве, имела эпиграф: «Кто посмеет сказать, что я предал?!» Новый эпиграф: «Отчизна! Безутешным сиротой я изнываю здесь в стране чужой» — отнюдь не раскрывает главного в богатой драматическим действием, резкими переломами и напряженными трагическими ситуациями сцене.
Стоило ли ради принципа «лишь бы не было похоже» отказываться от несомненно удачной и уже органически вошедшей в оперу находки автора и первого постановщика?
Все перечисленные просчеты значительно снижают впечатление от спектакля, даже от тех удач, какие есть в нем. А достоинств в новой постановке немало. Большая удача Ансимова — новое решение финала оперы, седьмой картины. Совсем не трафаретно и очень убедительно прочтена эта сцена. Тонкая поэтичность своеобразно сочетается в ней с монументальностью. Поэт идет на казнь, и внезапно непроглядный мрак расступается: в ослепительных лучах света Джалиль стоит на пьедестале с маленьким цветком в руке, словно шагнувший из стен тюрьмы в бессмертие.
Выиграла в новой постановке и четвертая картина. Разбив ее на несколько эпизодов (со сменой места действия), режиссер придал действию большую динамичность.
Безусловная заслуга режиссера — целеустремленная работа с актерами. Драматически одаренным исполнителем и хорошим вокалистом показал себя А. Аббасов — Джалиль. Однако излишняя нервоз-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Призыв матери 5
- Песни Александры Пахмутовой 8
- В. Рындин — театральный художник 13
- «Октябрь» в Большом 22
- Своей дорогой 26
- Живая русская традиция 33
- В стране Курпатии 36
- «Ночной поезд» 41
- Песни из цикла «Акварели»: «Клены», «Эй, дождик!» 46
- Пятая премьера 50
- В партитуре и на сцене 53
- Одесские очерки 60
- Говорит Бенджамин Бриттен 67
- Новые перспективы 68
- В восприятии наших современников 80
- Разговор о Равеле 84
- Совершенствовать вокальное мастерство 89
- Поет Долуханова 98
- Новое в программах 99
- Солирует контрабасист 100
- Александр Слободяник 101
- Молодежь из Тбилиси 102
- Трио «Бухарест» 102
- Письма из городов. Донецк 103
- Письма из городов. Кисловодск 104
- Телевидение: С карандашом у экрана 105
- По следам наших выступлений: Дети ждут! 107
- «Воццек» и музыкальный экспрессионизм 109
- Нестареющая музыка 119
- Фестиваль в Познани 123
- Быдгощ и Торунь, 1966 127
- Письмо в редакцию 129
- Большой театр в Милане 130
- Спустя два века 139
- Вдумчивый музыкант-педагог 141
- И скучно и грустно 144
- Коротко о книгах 146
- В смешном ладу 148
- Поздравляем женщин! 150
- Хранительницы песен 154
- Трагедия исчезнувшего села 155
- «Княжна Майя» 156
- На сцене — герои Маршака 156
- В союзах композиторов 157
- Поздравляем юбиляров 157
- Поздравляем юбиляров 158
- В Поволжье 159
- Второе рождение 159
- Новая роль. Неожиданный дебют 161
- «После третьего звонка» 161
- Бетховенский цикл в Казани 161
- Колхозная музыкальная 162
- Премьеры 163
- Памяти ушедших. П. Ф. Покромович 165



