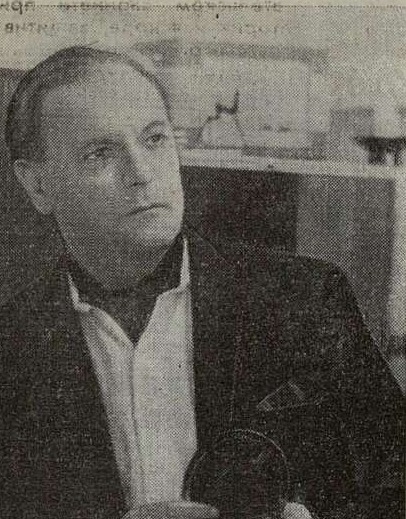
— Нам в тринадцатую гвардейскую дивизию. Ледок чуть окреп. Поехали!
Удивительный факт, что в самые трудные дни Великой Отечественной бойцы не расставались с песней и песня не расставалась с бойцами, стал уже обычной газетной фразой, почти штампом. Но мы знаем не поверхность, а самую «сердцевинку» этого факта. И для нас он никогда штампом не станет. «Течет Волга». За ее мелодией стоят годы...
В тесной землянке на склонах Мамаева кургана играет трофейный аккордеон. Человек, перебирающий клавиши, ничем не отличается от других бойцов — в той же форме, в том же звании. Он исполняет свою песню «Стоит среди бурь исполин величавый...».
Марк Фрадкин прошел войну в составе несколько необычного подразделения — фронтового ансамбля, коллектива, ставшего трамплином для многих больших мастеров. Достаточно сказать, что вели программу рядовые Тарапунька и Штепсель, а танцы ставил офицер П. Вирский, ныне народный артист СССР.
Ансамбль хлебнул войны полной мерой: был в окружении... выступал, отступал... выступал... Там, где нельзя было действовать хором, разбивались на мелкие группы: тактика, продиктованная военными обстоятельствами.
И вот землянка на склоне Мамаева кургана и рядовой Марк Фрадкин с аккордеоном — полномочный представитель ансамбля песни и пляски Донского фронта... Теперь, в наши дни, композиторы с аккордеоном редко выходят на аудиторию. Не солидно! А жаль. Это хорошо, когда «не солидно».
Марку Фрадкину и его песням верили бойцы. Потому, что в самую тяжелую годину он сумел услышать мелодию человеческой боли, обратить эту боль в оружие, разящее врага.
Я говорю про «Песню о Днепре». Дата ее сочинения — ноябрь 1941 года. Место — Урюпинск, тылы Юго-Западного фронта. На душе тяжело: вот куда занесло нас...
Когда я шел по холмам оккупированной Украины, когда переправлялся через Днепр, все складывалась, складывалась песня.
В Урюпинск ансамбль прибыл для обслуживания переформировывающихся частей.
— У нас есть свой композитор. Марк Фрадкин. Не слышали? Он напишет песню о Днепре...
С «композитором в шинели» мы идем искать пианино. Заглядываем в окна хат. Сквозь морозный узор кое-как разглядели бронзовые подсвечники. (Хозяин дома — священник.) Право армейского постоя, кажется, на пользование музыкальными инструментами не распространяется?
— Разрешите нам поиграть на вашем пианино?
Более странной просьбы в ноябре 1941 года, наверное, никто не слыхивал. Всю горечь отступления, все пережитое вложил Марк Фрадкин в музыку «Песни о Днепре». Ночью, сквозь метель, мы бежим в ансамбль, размещающийся в конюшнях кавалеристов. Руководитель ансамбля И. Шейнин слушает. Молчит. Приказывает собрать свое подразделение. Все слушают. Молчат. Завтра будем петь. Приказано разучить.
Первое исполнение в манеже при казармах. Слушателей тысяча. И все — только что вырвавшиеся из окружения командиры и политработники. Я никогда не забуду молчания, которым, была встречена «Песня о Днепре». Такое это было молчание, что ансамбль вынужден был исполнить песню вновь. И еще — в третий раз. И потом еще долго стояли и солдаты ансамбля, и слушатели и смотрели друг на друга. Думали о пройденном пути. Вновь видели Днепр.
Не до бахвальства нам было. И не для бахвальства я это вспоминаю. Я говорю о музыке, ставшей оружием священной войны. И о композиторе, родившемся на войне. В армиях агрессоров не рождаются Композиторы.
Много славных песен создал Марк Фрадкин за 25 лет своей работы, в последние годы ярко проявил себя в кино. Хотя пишет он скупо, но за четверть века подобралась у него целая шеренга хороших песен. В их интонациях, которые всегда узнаешь, сливаются лирика и публицистика. Такой это композитор. Очень даровитый. Очень современный.
Я не перечисляю здесь его мелодий — их знают все. Я только вспомнил две из них — одну из последних и одну из первых. И порадовался постоянству таланта. И тому, что мой товарищ встречает пятидесятилетие в отличной форме.
Е. Долматовский
Н. Н. Чуркин
Лет тридцать назад профессиональная белорусская музыка делала свои первые шаги. При радиокомитете был организован первый в республике симфонический оркестр, создано несколько профессиональных хоров и ансамблей, открыт музыкальный техникум. Выступления сим-
фонического коллектива принимались буквально «на ура», если же исполнялась какая-нибудь пьеса национального композитора, восторгу зрителей, казалось, не будет предела. К сожалению, мы, оркестранты, не могли похвастаться обилием этих пьес в репертуаре. Поэтому каждое новое, а тем более крупное произведение, появлявшееся на наших пультах, радовало весь коллектив. Особенно запомнилось мне знакомство с симфониеттой Н. Чуркина «Белорусские картинки». Почти никто тогда не знал скромного преподавателя Могилевского педтехникума, и поначалу мы недоверчиво разглядывали переписанные торопливой рукой ноты. Но вот зазвучали первые такты, и словно свежим ветерком повеяло со страниц партитуры. Все здесь было просто, искренне, мелодично, и за всем чувствовались профессионализм и одаренность, любовь к народной песне (мы насчитали тогда в симфониетте около полутора десятков народных мелодий). Кроме того, музыка подкупала своей жизнерадостностью, молодым задором. Таким же молодым и задорным представляли мы себе автора и, признаться, удивились, увидев на генеральной репетиции человека, уже «разменявшего» седьмой десяток жизни. Однако, познакомившись ближе, убедились, что он и впрямь молод душой, по-молодому влюблен в искусство.
С этого дня Николай Николаевич стал частым гостем в коллективе, очень быстро сдружился с нами; мы искренне полюбили его за общительный и веселый нрав, готовность помочь в нужную минуту. Симфониетта Чуркина стала одним из популярнейших произведений белорусской музыки. Спустя год после первого исполнения в Минске она была записана на грампластинки, в 1937 г. прозвучала под управлением Оскара Фрида, обошла многие концертные площадки страны, звучит по радио и по сей день.
21 мая автору симфониетты исполняется 95 лет, но тот, кто близко знает композитора, видит; годы не исчерпали его творческих сил.
Мне часто приходилось встречаться с Николаем Николаевичем. Его цепкая память сохранила множество смешных и печальных, интересных и поучительных эпизодов, о которых он рассказывал с неистощимым юмором. Перед слушателем словно проходит весь огромный жизненный путь старейшего советского композитора.
...Небольшое живописное местечко Джелал-Оглы Тифлисской губернии. Здесь в бедной крестьянской семье он родился. Одиннадцатилетним мальчиком попал в Тифлисскую военно-фельдшерскую школу, где увлекся не столько медициной, сколько игрой в школьном оркестре. Затем класс композиции Ипполитова-Иванова в Тифлисском музыкальном училище, знакомство с Рубинштейном, Чайковским, Аренским, Шаляпиным, Горьким... Дальше — самостоятельная работа в Баку, первые успехи в музыке, активная помощь музыкальным кружкам бакинских рабочих, конфликт со всесильным тогда духовенством (в частности, небольшая «ошибка», благодаря которой было безнадежно испорчено исполнение «Боже царя храни» в один из «табельных дней» — и композитор остался без места)... Затем педагогическое поприще: Ковно, Вильно, Мстиславль, Могилев, Минск, бесконечные фольклорные экспедиции...

За семьдесят с лишним лет своей деятельности Николай Николаевич собрал огромный фольклорный материал — более трех тысяч лучших образцов белорусского народного творчества. Трижды выходили в свет сборники Н. Чуркина: в 1910, 1949 и 1959 гг. И теперь, пожалуй, не найдешь в Белоруссии композитора, который не пользовался бы ими. А обработки народных песен и танцев? Теперь даже невозможно установить точного количества — так их много!
Просматривая огромный список созданного Чуркиным, невольно поражаешься его чувству нового, умению избирать наиболее важную для того или иного периода творческую тему. В дореволюционные времена он занимался такой «предосудительной» деятельностью, как запись и пропаганда народных песен. Первым ощутил он народный дух поэзии Купалы, Коласа, Буйлы и других белорусских поэтов. Не успела окончиться гражданская война, как он создал первую оперу о революции. Первым написал Чуркин и крупное симфоническое произведение, целиком построенное на народном материале, первым стал автором массовых песен и оперы для детей, музыкальной комедии, поставленной в национальном театре. Песни Н. Чуркина о комсомоле, молодежи, колхозной жизни также прозвучали первыми. Первым среди белорусских композиторов откликнулся он и на исторический XXII съезд КПСС.
Обаяние таланта композитора таится в глубокой демократичности, жизнеутверждающем характере его музыки. Именно поэтому она удивительно быстро находит дорогу к народу, остается вечно молодой. И на пороге девяносто шестого года жизни мне от всей души хочется пожелать юбиляру еще много лет быть таким же добрым и жизнерадостным, как его музыка.
Д. Журавлев
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Немеркнущий свет музыки 5
- Сильнее смерти 8
- Пути к слушателю 15
- Неисчерпаемая жизненная сила 20
- У композиторов Латвии 22
- Общее дело, кровное дело 25
- Музыкальный театр в строю 29
- В КДС — артисты Литвы 38
- Елене Фабиановне — девяносто 44
- Из моих воспоминаний 48
- Айно Кюльванд 59
- Ревдар Садыков 62
- Вспоминая Дранишникова 65
- Образы артистов 67
- Мысли о дирижировании 69
- В концертных залах 78
- Песни, ставшие народными 86
- «Склонiмо голови…» (хор из IV акта оперы «Тарас Шевченко») 93
- На пути к большому искусству 95
- Современнику посвящается 101
- Говорят члены жюри 106
- Все в наших руках! 108
- Богатство танцевальных красок 111
- Внимание народным инструментам! 115
- Партизанские крылья 117
- Европа против фашизма 125
- Заметки из Копенгагена 133
- У нас в гостях Б. Бриттен 135
- Шекспир и музыка 137
- «Равель в зеркале своих писем» 141
- Осторожно: пошлость! 144
- Нотография и грампластинки 146
- Хроника 151



