X. Алавеса или лирическая «На пальмовом берегу».
Общий недостаток сборника — случайный, односторонний подбор материала. Все помещенные в нем песни в целом относятся лишь к двум жанрам мексиканского фольклора — «кансьон» и «корридо». Здесь нет таких ярких национальных форм, как «сон», «харабэ», «ранчера», «айре» и многие другие. Это обедняет представление о богатейшем мексиканском музыкальном фольклоре. Нельзя не подосадовать и по поводу многочисленных опечаток, подчас ведущих к недоразумениям. Так, третья строфа испанского текста в «Птичке полевой» выглядит совершенно бессмысленной. Известный мексиканский композитор М. Понсе предстал как никому не ведомый М. Понс. Перепутаны инициалы у X. Л. Алавеса — он оказался И. Л. Алавесом. Вообще, нужно сказать, что редактирование подобных сборников, как правило, оставляет желать лучшего.
Последняя тетрадь, «Песни Африки», в этом отношении наиболее «благополучная» и, пожалуй, самая интересная. В самом деле, кого не заинтригуют песни Ганы, Конго, Сенегала, Того, Гвинеи? Ведь это живой голос огромного континента, о котором мы еще так мало знаем. В. Сибирский (автор обработок, он же в ряде случаев и переводчик) включил в сборник 17 песен, знакомящих нас со своеобразным музыкальным фольклором народов, лишь совсем недавно обретших свободу и получивших возможность открыто выражать в песне свои мысли и чувства. Тем более ценны эти лаконичные документы.
На наших глазах чернокожий гигант поднимается, расправляет свои могучие плечи. И оказывается, что он (как долго отказывали ему в этом колонизаторы!) умеет так непринужденно смеяться, так нежно любить, быть таким верным и преданным в дружбе! Разве не об этом говорится в гвинейской песне «Фатимата» или в марокканской «Нет, ни в чем я не виновна»?
Заслуживают внимания обработки песен. В. Сибирский равно избегает как скрупулезного этнографизма, с одной стороны, так и условно штампованной «экзотики» — с другой. В фортепианных партиях немало ярких гармонических и ритмических находок, естественно вытекающих из самой мелодической линии. Особенно хочется отметить обработку песен «Карабана» и «О земля, земля», где весьма простыми средствами воспроизведена типичная для африканской музыки полиритмия между вокальной партией и голосами аккомпанемента. Высокой оценки заслуживают «Пять детских народных песен» республики Ганы: здесь изящество фактуры очень гармонично сочетается с удачно найденной ладовой и ритмической основой. Думается, что эти песни займут свое место в репертуаре наших исполнителей. Они этого вполне заслуживают.
В заключение — пожелание, обращенное к издательству. Пусть чаще выходят в свет сборники песен зарубежных народов, сборники «хорошие и разные». Они делают большое и полезное дело. Но пусть также им уделяется должное внимание, чтобы в них не попадало ничего случайного, незначительного, непроверенного.
П. П.
Будапештская граммофонная фирма «Квалитон» выпустила интереснейшую пластинку-монтаж «Памяти Ленина». В ней три подлинные речи В. И. Ленина, записанные на фонограф в 1919 году, воспоминания старых венгерских коммунистов, лично знавших Ленина, а также несколько хоровых песен, связанных с именем великого вождя. Пластинка подготовлена «Комиссией рабочей песни», созданной при Венгерской Академии наук два года назад. Составитель — А. Сатмари, редактор — Л. Ревес.
Нельзя без волнения слушать этот удивительный звуковой документ. Март 1919 года. В Будапеште провозглашена советская власть, возглавляемая правительством Бела Куна. В разговоре с ним по радио Ленин приветствует победу венгерских коммунистов. «Революция близится, нарастает везде,— говорит Ленин в «Обращении к Красной Армии».— На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть — рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы». Мы слышим голос Ильича — беседа «Что такое советская власть», «Сообщение о переговорах по радио с Бела Куном». Подлинные речи Ленина тут же сопровождаются венгерскими переводами.
Выступают ветераны Венгерской коммуны 1919 года. Ф. Штеман — бывший радист, находившийся на радиостанции в Чепеле в момент беседы Ленина с Бела Куном. Восьмидесятилетний Шандор Сатмари-Сати — старейший коммунистический деятель и поэт, автор многих рабочих песен. Аладар Хикаде, бывший председатель революционного трибунала, описывает свою беседу с Лениным в Горках, где он был на приеме вместе с Бела Куном и другими венгерскими товарищами: «Ленин спросил меня, как я справлялся со своей должностью в ревтрибунале, не имея специального юридического образования. Я ответил, что поступал не по букве закона, а по велению сердца. Когда мы заговорили о Венгерской коммуне, Ленин, заметив, что я выгляжу очень опечаленным, сказал: "Мы тоже ошибались, но на ошибках нужно учиться; мы еще доживем до второй венгерской коммуны, и тогда уже это будет сделано как следует"».
Политические речи и воспоминания чередуются с революционными песнями. Мы слышим знакомые мелодии любимых песен Владимира Ильича — «Смело, товарищи, в ногу», «Замучен тяжелой неволей» (последняя в обработке Л. Шульгина). Звучат «Дубинушка» и тюремная песня «Слушай!». Очень интересны венгерские рабочие и партизанские песни — гимническая «Красная гвардия» (автор — Вианиго-Гибинетте) и особенно «Песнь о Бела Куне», с ее типично венгерскими острыми ритмами (стихи Ш. Сатмари-Сати). В монтаж включены также «Песня о Ленине» А. Холминова, стихотворение Аладара Комьята «Ленин умер, Ленин жив» в исполнении юных пионеров и симфонический фрагмент Ференца Сабо. Песни исполняются лучшими хоровыми коллективами Будапешта.
Пластинка «Памяти Ленина» — волнующий художественный и политический документ. Стоило бы подумать о возможности повторения этого полезного опыта в практике наших граммофонных студий.
И. Н.
НАШИ ЮБИЛЯРЫ
М. В. Бражников
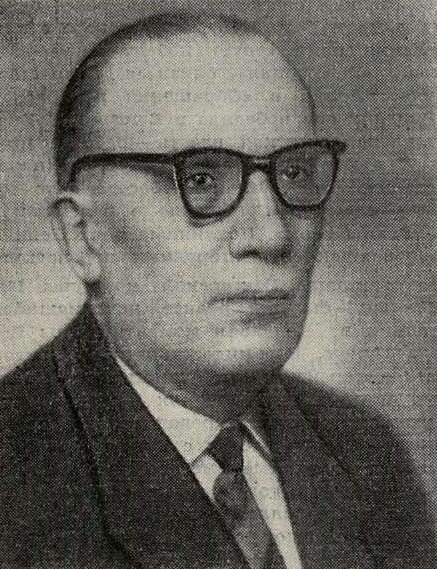
Исполнилось 60 лет музыковеду Максиму Викторовичу Бражникову. Крупный специалист по музыкальной культуре русского средневековья, он посвятил около 40 лет письменному многоголосию, этой малоизученной области, тесно связанной с народной песенной культурой.
Максим Викторович — коренной ленинградец. Здесь он родился, здесь начал обучаться музыке. В 1920 году поступил в консерватори о на фортепианное отделение, в класс Л. Николаева. Затем он стал брать уроки специальной теории и свободного сочинения у В. Калафати, а вскоре увлекся музыкальной наукой. Под руководством профессора А. Преображенского, читавшего курс «Памятники древней русской музыки», Бражников приступил к самостоятельной работе — расшифровке древнерусских музыкальных рукописей. После смерти своего учителя он в течение двух лет ведет его курс и одновременно преподает историю русской музыки в Институте истории искусств (ныне Институт театра, музыки и кинематографии). Все последующие годы, включая и время работы старшим научным сотрудником и ученым секретарем сектора музыкальной культуры и техники Эрмитажа (1936–1941), Максим Викторович продолжает систематически расшифровывать рукописи, собирает материалы для дальнейших исследований. С 1943 года на протяжении двух лет он работает в научно-исследовательском кабинете при Московской консерватории и вскоре, защитив диссертацию на тему «Многоголосие знаменных партитур», получает степень кандидата искусствоведения. Параллельно (1946–1948 гг.) занимает должность главного библиографа в отделе рукописей Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. С 1954 года и поныне Максим Викторович — старший научный сотрудник Института театра, музыки и кинематографии.
Объем научных трудов Бражникова — их более тридцати — исчисляется многими десятками печатных листов. Среди них такие, как «Новые задачи исследования памятников древнерусской музыки» (1939), «Описание певческих рукописей отдела рукописей Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» (1940), «Руководство по изучению и описанию древнерусских певческих рукописей» (1943), «Пути и задачи расшифровки знаменного распева XII–XVIII веков», «Русские певческие рукописи и русская палеография» (1949), «Музыкальные инструменты» (издание архива И. Кулибина, 1953), «Благовещенский кондакарь» (1957), «Федор-крестьянин — русский роспевщик» (1960).
К этому следует добавить работы иного профиля, в том числе академическую редакцию 24-го, 44-го и 46-го томов полного собрания сочинений Римского-Корсакова.
Ценность исследований Бражникова не раз отмечалась крупными искусствоведами в нашей стране и за рубежом. (К сожалению, ни одна из последних капитальных работ Бражникова до сих пор не увидела света.)
В настоящее время Максим Викторович завершает свой труд «Древнерусские музыкально-теоретические руководства», Там, в частности, приводятся доказательства самостоятельности и самобытности музыкальной теории русского средневековья. Задуманы еще три крупных работы: «Словарь древнерусских музыкальных терминов» (около 3 500 слов) — плод почти тридцатилетних изысканий, «Руководство по древнерусской музыкальной палеографии» и научные публикации ценнейших древнерусских музыкальных памятников.
Л. Кершнер
М. Г. Фрадкин
Песня «Течет Волга» — это прекрасный подарок, который сделал композитор сам себе к пятидесятилетию. Строгий читатель меня поправит: не себе — слушателю, народу. Согласен. Но с добавлением: в народном представлении у композитора возраста не бывает, он всегда молод, он должен быть молодым, должен работать, непрерывно открывая новое. И слушатель всегда молод. А между прочим, Марку Фрадкину — пятьдесят. Только — между прочим. Так и условимся. А подарок себе — это верность своему мелодическому дару, пронесенная через всю жизнь.
Слушая песню о Волге, я вспоминаю Волгу иных времен: горит нефтебаза, горит река; переправа с левого берега на правый сопряжена с печальной возможностью... Нет, об этом не говорят, не думают.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Немеркнущий свет музыки 5
- Сильнее смерти 8
- Пути к слушателю 15
- Неисчерпаемая жизненная сила 20
- У композиторов Латвии 22
- Общее дело, кровное дело 25
- Музыкальный театр в строю 29
- В КДС — артисты Литвы 38
- Елене Фабиановне — девяносто 44
- Из моих воспоминаний 48
- Айно Кюльванд 59
- Ревдар Садыков 62
- Вспоминая Дранишникова 65
- Образы артистов 67
- Мысли о дирижировании 69
- В концертных залах 78
- Песни, ставшие народными 86
- «Склонiмо голови…» (хор из IV акта оперы «Тарас Шевченко») 93
- На пути к большому искусству 95
- Современнику посвящается 101
- Говорят члены жюри 106
- Все в наших руках! 108
- Богатство танцевальных красок 111
- Внимание народным инструментам! 115
- Партизанские крылья 117
- Европа против фашизма 125
- Заметки из Копенгагена 133
- У нас в гостях Б. Бриттен 135
- Шекспир и музыка 137
- «Равель в зеркале своих писем» 141
- Осторожно: пошлость! 144
- Нотография и грампластинки 146
- Хроника 151



