нужно стремиться к более ясной авторской петиции, к умению встать «над» материалом. Нужны более разнообразные статьи о советском творчестве, и очень нужна разработка проблем социалистического реализма. Не следует бояться того, что иногда статьи будут дискуссионными, что они вызовут критику, споры, возражения. Слишком сложна и многообразна проблематика современного искусства, и советского и зарубежного, слишком близко всех нас это касается, чтобы каждое явление было сразу же оценено и с исчерпывающей полнотой и с безупречной верностью.
С. Аксюк
О НАШЕМ СОВРЕМЕННИКЕ
Книга Г. Хубова «Арам Хачатурян» примечательна многими своими свойствами: автор полон горячего интереса к своей теме, знает ее издавна, с первых же творческих шагов Хачатуряна он ревностно следит за развитием таланта композитора, превосходно чувствует его исходные национальные основы, а главное, страстно увлечен музыкой, близкой ему и по музыкальным образам, и по общему идейно-философскому строю.
Я мог бы назвать труды И. Нестьева о Прокофьеве и Л. Карагичевой о Кара Караеве, в которых столь же полно отражены сложные творческие проблемы советской музыки. Необходимость в таких развитых и углубленных монографиях о выдающихся представителях советской музыкальной культуры очевидна. И чем больше будет создано таких монографий, тем основательнее будет фундамент для истории нашей музыки.
Уже на первых ступенях жизненного пути Хачатуряна автор книги проницательно различает условия и среду, оказавшие сильное влияние на формирование его пристрастий в музыке. Подчеркиваются традиции армянской музыки в Тбилиси, их жизненность и, главное, то, что «они “произрастали” на плодоносной почве народного искусства — в атмосфере живого общения национальных культур Закавказья, развитие которых поддерживалось и обогащалось связями с русской и западноевропейской классикой, с прогрессивным движением современности. И именно здесь — в народной почве этих традиций таятся истоки творчества Арама Хачатуряна» (стр. 9). Это утверждение дается автором не априорно, а на основе исследования богатого материала музыкального быта, биографических данных, исторических фактов. Такой характер исследования носит не только очерк о юношеских годах Хачатуряна — вся книга проникнута стремлением строить выводы, приходить к обобщениям на крепкой основе жизненных явлений и фактов.
Приведенный выше вывод о народной почве творчества композитора, о взаимообогащении культур является как бы ключом, лейттемой всей книги.
Говоря о народных истоках, автор убедительно показывает, какие именно их черты, жанры, свойства были притягательными для композитора, раскрывает специфику взаимосвязей народного и профессионального. Хубов указывает на определенные черты искусства ашугов, особенно влиятельные в творчестве композитора, а именно «Инструментальное начало, рожденное стихией народного песенно-танцевального мелоса», «задатки народного симфонизма, таящего богатейшие возможности развития» (стр. 12–16).
Особо акцентирует автор восприятие Хачатуряном ритмической игры в импровизациях ашугов и справедливо замечает, что композитора «безотчетно влекла и по-детски восхищала» привораживающая сила ритма народной музыки. Таких проницательных замечаний и удачно сформулированных определений мы найдем в рецензируемой книге немало.
Особая ценность книги в том, что в ней есть попытка на конкретном творческом материале раскрыть процесс перехода национального в интернациональное — проблема, наиболее волнующая советское музыкознание, но, к сожалению, еще мало исследованная. Здесь мы находим у автора пока еще только приближенные решения, наблюдаем предварительную стадию накопления материала, часто интуитивные выводы, интересные догадки, которые в целом, однако, создают хорошую основу для последующих работ в этом направлении.
_________
Георгий Хубов. Арам Хачатурян. «Советский композитор», М., 1962, 440 стр. тираж 8000.
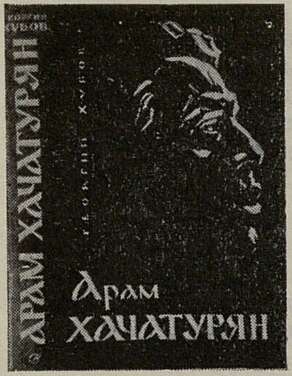
Отметим ценность подчеркивания роли обертоники народного инструментализма и «слухового представления» (категория важная и мало еще осознанная), внимание к «неприметности» ладовых связей и конструктивной, формообразующей их роли, акцент на типическом в самом идейно-смысловом содержании музыкального образа. Пытливый и внимательный читатель найдет в книге Хубова достаточно материала и замечаний, позволяющих развивать и проверять ряд важных положений о принципах строительства музыкальных национальных культур, вышедших со своими достижениями на мировую музыкальную арену.
В книге заслуженно много места уделено вопросам симфонизма, развивающегося на национальной музыкально-тематической основе. Автором замечена существенная черта симфонизма Хачатуряна. По поводу Первой симфонии он говорит: «Народная импровизационность переформирована в симфонии Хачатуряна: удачно введенная в глубокое русло симфонического развития, — она вносит сюда своеобразие национальной формы, обновляет и расширяет выразительные возможности, усиливает вместе с тем роль и значение разработки контрастного тематизма, способствуя реалистическому воплощению замысла» (стр. 87).
Эти положения раскрываются автором на многочисленных примерах и убеждают в необычайном своеобразии принципов и приемов трансформации народного материала, перевода импровизационности в русло логики симфонического развития. Это, пожалуй, наиболее существенная часть среди исследовательски-технологических проблем книги. Автор видит и неудачи и срывы в применении этих методов, когда они не подкреплены материалом, поддающимся симфонизации. Так, например, анализируя финал Первой симфонии Хачатуряна, автор справедливо констатирует: «Движение, не побуждаемое контрастами, приобретает характер однообразного кружения — в бесконечно варьируемой повторности все той же, сравнительно короткой темы» (стр. 92).
Касаясь самого существа творчества Хачатуряна, Хубов находит глубокие и широкоохватные определения основных его идейно-эстетических свойств. Вот одно из таких определений: «Воспевание широкозвучной красоты жизни, творческая радость созидающего труда, радость преодоленья — вот главная тема хачатуряновской музыки... В этом радостном воспевании прекрасного нашей жизни выражается могучая сила таланта Хачатуряна и его яркая художественная индивидуальность» (стр. 97). Хочется подчеркнуть принципиальное отличие этих положений от определений Б. Асафьева, видевшего в творчестве Хачатуряна гедонистическое начало.
Думается, что Хубов более прав, не акцентируя «философии наслаждения» в мировоззрении и творчестве Хачатуряна, усматривая наполненность его реалистическим содержанием. Автор книги убедительно раскрывает свою мысль, связав ее с народным началом в творчестве композитора: «В патетических импровизациях ашугов (отчасти и сазандаров), в эмоциональной приподнятости их образной речи, в виртуозности мелодического колорирования, игры красок и оттенков — берет начало концертантность музыки Хачатуряна...» И далее: «...и все это не беспечный гедонизм, не бездумное самоуслаждение (в котором всегда звучит нотка расслабленности), а великолепие силы здорового и мужественного таланта, влюбленного в жизнь и прославляющего торжество жизни» (стр. 132).
В свете этих утверждений справедливо и закономерно положение автора о том, что «в музыке Хачатуряна совершенно нет томной расслабленности эстетических ощущений — “интересной бледности, изящного бессилия”, как нет и изысканного обыгрывания натуралистических деталей, что порой так свойственно импрессионистам» (стр. 180).
В рецензируемой книге читатель найдет достаточно аргументированные выводы, разносторонне оценивающие творчество Хачатуряна во всех его конкретных проявлениях: подробно прослеживается путь художника, освещаются проблемы расширения идейно-образной сферы, взаимосвязей с мировой музыкальной культурой.
Представляется ценным, что автор книги нигде не отступает от объективности и справедливо подвергает критике (всегда доказательной) некоторые свойства и явления в творчестве композитора. Ряд критических замечаний, например, адресует автор композитору, творческая и общественная деятельность которого испытывала известный кризис в конце сороковых годов.
Следует, однако, указать и на недостаток книги Хубова. Он заключается в известной неразвитости аналитического метода. Порою описание, хотя и яркое, подменяет глубокое раскрытие
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- За музыку коммунистического завтра! 9
- Советской Белоруссии — 45 лет 15
- Диалектика искусства 17
- Сила песни 25
- К итогам дискуссии 33
- Вариации на неизменную тему 43
- Новому — дорогу! 47
- Готовить разносторонних музыкантов 50
- Надо искать выход 52
- Режиссер в опере 53
- Второе рождение оперы 59
- Впервые на советской сцене 64
- Первая азербайджанская балерина 67
- Эскиз портрета 72
- Музыканты из Молдавии 75
- В честь Пабло Казальса 79
- Памяти Лео Вейнера 82
- Имени Никколо Паганини 83
- Из воспоминаний 85
- В концертных залах 93
- Талант публициста 104
- Думать, спорить, искать 106
- Опера? Музыкальная новелла? 108
- «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 112
- «Военные» симфонии Онеггера 120
- Музыка, возвращенная народу 132
- Живой Пуленк 134
- Чем озабочен второй гобой? 137
- Больше инициативы 139
- О нашем современнике 145
- Тема, оставшаяся нерешенной 147
- Нотография 152
- Наши юбиляры. Х. Ф. Ахметов, В. А. Белый 153
- Хроника 155



