Решить проблему взаимосвязи гармонии и формы — значит раскрыть диалектику отношений между ролью гармонии в форме, с одной стороны, и характером гармонических связей — с другой. Анализ этих отношений позволяет установить основное требование музыкальной формы как оправданного процесса формообразования — соответствие между ролью гармонии в форме и характером гармонических связей. Этот вопрос является коренным для данной темы, поэтому я позволю себе остановиться на нем подробнее.
*
В добаховскую эпоху европейская музыка имела характер скорее ладовый, чем тональный. Это объясняется тем, что в ней господствовали полифонические формы и преобладали мелодические связи между ступенями лада, из которых одни были устойчивее других. Тоника ощущалась как самая устойчивая ступень лада. Функциональное значение этих ступеней было осознано позднее, во времена Баха и Генделя, у которых оба вида связи — ладовый и функциональный — имели равное значение, благодаря чему их гармония была необыкновенно богатой и выразительной.
Классицизм принес новое требование к искусству — пропорциональность и ясность формы. Это привело к созданию венскими классиками такой гармонии, которая была бы полностью подчинена требованиям формы, то есть исполняла бы в ней служебную роль. Такая гармония получила название функциональной, и базировалась она на трех основных функциях. Эти функции осуществляли гармоническую связь внутри формы. Ладовые связи с характерной для них текучестью не отвечали требованиям ясности формы и поэтому были сведены до минимума. Образовался стандартный европейский лад — натуральный мажор и гармонический минор. Таким образом, венские классики создали гармонию, роль которой в процессе формообразования была подчиненной, а характер гармонических связей — функциональный. Основное требование — соответствие между ролью и характером гармонии в форме — было достигнуто.
В период раннего романтизма на первый план выдвинулся критерий красочности, повышенной выразительности. В силу этого возникает некоторое несоответствие между новой, более самостоятельной ролью гармонии в форме и старым функциональным аппаратом. Нарушение основного требования вызывает в ней известную диспропорцию и приводит к появлению свободных романтических форм.
Ранние романтики тонко чувствуют эту опасность, подстерегающую их в области крупных симфонических композиций, поэтому они проявляют особое внимание к малым формам, которые в их творчестве чрезвычайно обогащаются и симфонизируются.
Симптоматичен при этом ярко выраженный интерес к проблемам лада у представителей славянского искусства — Шопена и Глинки.
У поздних романтиков красочность превращается в «монотонию роскоши» (Римский-Корсаков о Вагнере). Роль гармонии в форме становится господствующей. Гармонические связи претерпевают некоторые изменения, которые, однако, лишь подчеркивают и усиливают их функциональный характер. Господство гармонии в форме позволяет оперировать сразу многими тональностями, свободно модулируя из одной в другую. Гармонические связи получают огромную дополнительную нагрузку, поскольку они обслуживают теперь не одну, а все возможные тональности. Это делает их предельно гибкими и вызывает обилие хроматизмов вследствие максимально обостренной вводнотонности. Функциональность как служба одной главной тональности превращается в полифункциональность, то есть в службу всем тональностям, среди которых главная не господствует, а является скорее первой среди равных. Естественно, что усиление служебных функций ослабляет силу гармонических связей. Они как бы «перестают справляться» со своими обязанностями.
Таким образом, несоответствие основному требованию формы у ранних романтиков превратилось у их продолжателей в колоссальное противоречие между новой, все более господствующей ролью гармонии в форме и старым, все более служебным (функциональным) характером гармонических связей, между бесконечно возросшим значением гармонии в форме и до предела ослабленными связями внутри ее. Форма становится похожей на бесконечно раздуваемый резиновый шар, стенки которого делаются все тоньше и тоньше. На примере вступления к «Тристану и Изольде» мы видим, как чудовищно увеличились размеры периода. Так в европейской музыке конца XIX века возник глубочайший кризис формы.
Попытку найти выход из тупика предпринял
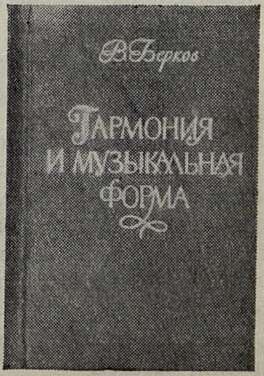
А. Шёнберг. Придя к выводу, что функциональная гармония исчерпала свои возможности и ошибочно перенеся этот вывод на всю гармонию в целом, он создал систему, в которой гармония была полностью лишена формообразующей силы. Достиг он этого, превратив полифункциональность, при которой гармонические связи обслуживают сразу все тональности, в атональность, где эти связи перестают служить тональности, а следовательно, и форме (характерной чертой системы поэтому является запрет трезвучий. Здесь они воспринимались бы как грань формы). Так гармония превратилась в вертикаль, то есть в случайное сочетание самостоятельных горизонтальных линий, и полностью утратила формообразующее значение. Последнюю роль взяла на себя горизонталь в виде серии из 12 тонов, которая является конструктивным зародышем формы. Ошибочные предпосылки привели к неустранимому противоречию между логикой горизонтального строения серийной музыки и восприятием слушателя, который ощущает построенную на случайных сочетаниях вертикаль. Отсутствие гармонических граней мешает ему ориентироваться в форме атонального произведения. Таким образом, ликвидация гармонии привела к еще более глубокому кризису западноевропейской музыки. Трагедия гениального художника Шёнберга заключалась в том, что он, как истый венец, находился под многовековым гипнозом традиций венской классической музыки и не представлял себе гармонии вне функций. Поэтому он решился скорее уничтожить гармонию, чем лишить ее функционального характера.
Иной выход нашел Мусоргский. Опираясь на традиции Глинки и на особенности русской ладовой культуры, он создал новый, не функциональный характер гармонических связей путем уравнения в правах главных и побочных ступеней и замены классической формулы S — D — Т свободной последовательностью ступеней очень богато трактуемого лада. Если для немецкой школы тональность определялась игрой функций внутри неизменного лада, то для Мусоргского тональность впервые предстала как многообразие ладов, существующих не только порознь, но и вместе, одновременно.
Гармонические связи приобрели, таким образом, «полиладовый» характер, что вызвало гигантский скачок и предопределило направление развития гармонического языка XX века.
«Революционизировав» гармонию, Мусоргский тем самым обновил и процесс формообразования. «Искусство не терпит предвзятых форм» — этот лозунг композитора стал заповедью для его последователей.
Открыв новый полиладовый характер гармонических связей, Мусоргский привел его в соответствие с господствующей ролью гармонии в форме и тем самым преодолел кризис. Это послужило мощным толчком к развитию реалистического музыкального искусства. Новаторство Мусоргского было подхвачено и «принято на вооружение» французскими импрессионистами, от которых перешло к композиторам других национальных школ — венгерской (Б. Барток), испанской (М. де Фалья), бразильской (Вилла Лобос). По тому же пути пошел молодой Стравинский. Наконец, вся советская музыкальная школа, включая С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова и других, развивает гармонические принципы Мусоргского.
Музыкальный язык XX столетия потребовал конкретности мышления, лапидарности, четкости формы. Это способствовало возникновению неоклассических тенденций, в основе которых лежала стилизация. По-настоящему творчески решил эту проблему Прокофьев, сумевший подчинить новую ладовую гармонию условиям классически ясной формы. Однако в результате обнаружилось (да и не могло не обнаружиться) несоответствие между ладовым характером гармонических связей и подчиненной ролью гармонии. Выход был найден в сочетании ладовых связей, преобладающих внутри формы, с функциональными связями, которые действуют только на ее гранях. Так появились знаменитые «прокофьевские кадансы». И все же на крупных композициях (сонаты, симфонии) такое разделение сказалось отрицательно: результатом его была характерная «сюитность» изложения материала, возникающая как следствие резкого обрыва ладового развития.
В свете сказанного своеобразное и перспективное явление представляет собой творчество Шостаковича. Своеобразие заключается здесь в удивительно органичном сочетании функционального характера гармонических связей, идущего от Чайковского и Малера, с богатейшими ладовыми связями, корень которых лежит в гармонии Мусоргского. Раньше такое сочетание наблюдалось только в музыке Баха и Генделя. Очевидно, природа полифонических форм, основывающаяся на мелодических принципах, требует соответствующих ей гармонических связей ладового характера. В то же время крупная симфоническая форма должна быть четко отгранена функциональными связями. Музыка Шостаковича (так же как в прошлом музыка Баха и Генделя) решает обе эти задачи одновременно, чем и объясняется такое слияние и взаимообогащение ладовых и функциональных связей. Поскольку в творчестве ведущих композиторов современности эта тенденция
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- За музыку коммунистического завтра! 9
- Советской Белоруссии — 45 лет 15
- Диалектика искусства 17
- Сила песни 25
- К итогам дискуссии 33
- Вариации на неизменную тему 43
- Новому — дорогу! 47
- Готовить разносторонних музыкантов 50
- Надо искать выход 52
- Режиссер в опере 53
- Второе рождение оперы 59
- Впервые на советской сцене 64
- Первая азербайджанская балерина 67
- Эскиз портрета 72
- Музыканты из Молдавии 75
- В честь Пабло Казальса 79
- Памяти Лео Вейнера 82
- Имени Никколо Паганини 83
- Из воспоминаний 85
- В концертных залах 93
- Талант публициста 104
- Думать, спорить, искать 106
- Опера? Музыкальная новелла? 108
- «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 112
- «Военные» симфонии Онеггера 120
- Музыка, возвращенная народу 132
- Живой Пуленк 134
- Чем озабочен второй гобой? 137
- Больше инициативы 139
- О нашем современнике 145
- Тема, оставшаяся нерешенной 147
- Нотография 152
- Наши юбиляры. Х. Ф. Ахметов, В. А. Белый 153
- Хроника 155



