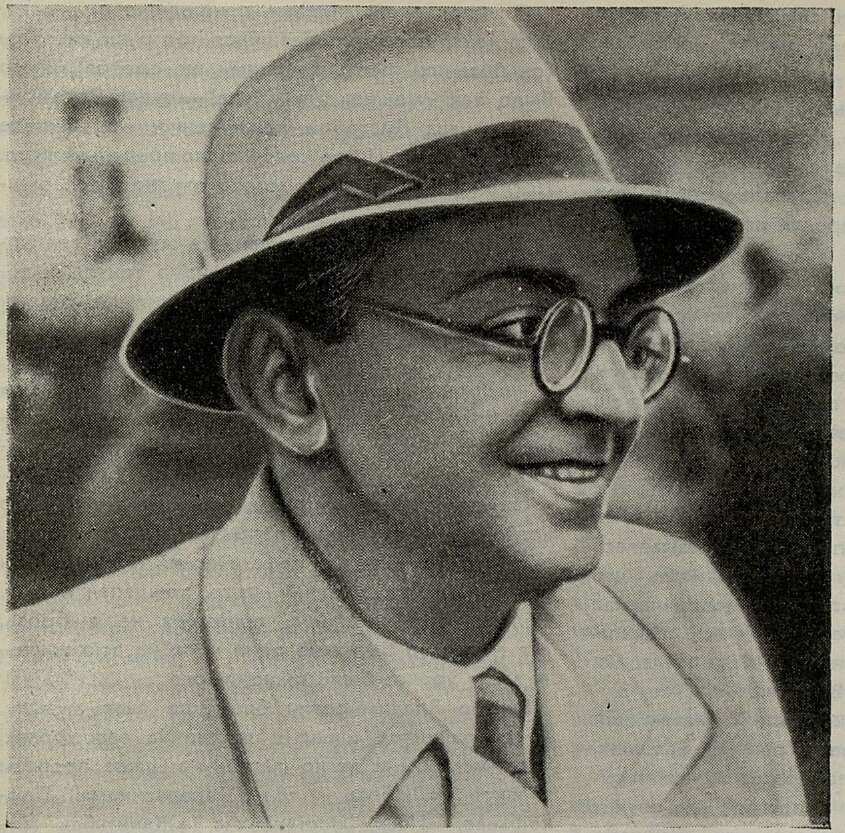
в споры. К примеру: Я: «Фольклор умирает вместе с деревенскими стариками». В. В.: «Формируется новый фольклор — завтрашнего дня. Кто знает, может быть, через много лет народным творчеством будут считать песни Дунаевского, Соловьева-Седого и другие, пока еще неизвестные нам. О старом фольклоре легче говорить. Он отстоялся, отфильтровался; уже ясно, что хорошо, а что плохо. Может быть, мы сейчас как раз живем во время становления нового фольклора, и тут смешано самое хорошее с самым плохим. Разобраться поэтому трудно. Пройдет время, и станет видно, что такое фольклор нашего времени. А он совсем иной, чем старый. Для него скорее характерна, может быть, массовая песня, а не то, к чему мы привыкли в старом фольклоре».
Виктор Владимирович настаивал на изучении народного творчества. По его инициативе была организована фольклорная экспедиция для студентов первого курса (в Костромскую область), в громадной пользе, даже необходимости которой мы убедились на собственном опыте.
В обязательном порядке Виктор Владимирович требовал, чтобы мы сочиняли массовые песни, и не только сочиняли, но и изучали этот жанр, говоря примерно так: «Допустим, вы не собираетесь в дальнейшем специализироваться в песне, но совершенно необходимо пробовать свое перо именно в том, что для вас не характерно. Так делали все большие композиторы. Посмотрите: симфонист Шостакович сколько написал массовых песен? И, наоборот, песенник Соловьев-Седой счел необходимым попробовать свои силы в крупной форме — сочинил балет «Тарас Бульба». Ну, во времена Моцарта — Бетховена не было «массового жанра», но что такое менуэты Моцарта, немецкие народные танцы, багатели Бетховена, вальсы Шуберта как не проба пера в самом прикладном, демократическом жанре. Даже Прокофьев, которому никак не давался жанр массовой песни, все же пытался что-то в нем сделать (а уж кто-кто, он-то был далек от какой-либо конъюнктуры), его также тянуло и к фольклору, свидетельством чего являются замечательные обработки русских народных песен.
Учился у нас такой композитор, Борис Киянов. Он и до консерватории был известен как эстрадный композитор. Казалось бы, чего еще? А вот ощутил потребность учиться: пришел к нам и
пять лет писал квартеты и симфонии. А потом опять вернулся к любимому жанру, но сейчас очень нам благодарен...»
Надо сказать, что В. В. был очень прав в своей педагогической диалектике. Периодически сочиняя то, что поначалу и не хотелось, я начинал замечать, как чуть ли не на глазах росла моя пусть тогда еще очень незрелая композиторская техника.
У него был очень своеобразный способ отыскивания дефектов в сочинениях учеников. Этот способ приблизительно можно определить так: «от непосредственного восприятия к анализу». Сначала он несколько раз прослушивал отрывок, потом говорил: «Мне кажется, вот тут (указывая в ноты) что-то не в порядке. Но я еще не знаю что. Так я воспринимаю на слух. Звучит вяло. Давайте разберемся». И тут начинался анализ. И почти всегда он бывал прав. Или оказывалась неудачная модуляция в ту же тональность, что встречалась незадолго до этого, или мелодическая линия каким-либо преждевременным скачком предвосхищала собственную же кульминацию, или что-нибудь подобное. Во всяком случае, студенту было ясно: нет школярской казуистики (ничего не поделаешь — ведь раньше услышал, а не увидел! Не потому не нравится, что нарушено какое-либо правило, а потому, что звучит плохо, а звучит так уже потому, что нарушено какое-то правило). И тут только оставалось согласиться и искать новый, более свежий вариант.
Помню, что я приносил ему на уроки одну лишь первую тему финала скрипичного концерта (моя первая работа в его классе) раза три, четыре, и все время он находил в ней какие-либо недостатки, а когда все вышло, то, к нашему взаимному удовлетворению, я убедился, насколько последний вариант полноценнее всех предыдущих. Как много я получил от этой кропотливой работы, где выверялась каждая нота, каждый сдвиг, каждый интервал!
Вообще его уроки никогда не были скучными. Если в классе, кроме ученика, с которым он занимался, был еще кто-нибудь из его студентов, он всегда умел сделать так, чтобы в занятиях участвовали все. Никогда не забуду, как своеобразно, весело и просто он преподал своему ученику одну музыкально-технологическую истину. Тот писал оперу, и в одном стремительном месте хор все время увязал в оркестре. Виктор Владимирович говорит:
— Вы сделайте так, чтобы реплики хора чередовались с репликами оркестра, ну примерно вроде...
Он спел слова, первые пришедшие ему в голову, взял первые попавшиеся под руки аккорды (он брал их просто ладонями, не смотря), и это было так смешно, эти «Куда? — туда! Зачем? — затем», так быстро и неожиданно, что мы все расхохотались. И все сразу стало предельно ясно. После такого озорного урока трудно было ошибиться...
Однажды я принес на занятие музыку, где некие «загадочные» зерна тематизма тонули в водовороте ходов и связок, безликих по своему интонационному строю. Он быстро сел за рояль и сказал:
— Эти ваши ходы столь общи и невыразительны, что вместо них можно играть все, что угодно. Вы это сочинили примерно по такому принципу.
Он сыграл начало темы, затем вместо моего хода просто пошлепал ладонями по клавиатуре; когда опять появился тематический материал, он опять его сыграл, затем опять пошлепал и т. д. Получилась карикатура, попавшая не в бровь, а в глаз. Это был еще один урок на всю жизнь. А таких уроков было очень много.
Виктор Владимирович блестяще знал музыку, в совершенстве играл с листа. На его уроках, например, были легко сыграны и даже пропеты клавиры: «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, «Нос» Шостаковича, «Женитьба» Мусоргского. Музыку последнего, в частности его вокальные циклы, мы изучали особенно тщательно.
Однажды, говоря о речитативно-декламационном письме Мусоргского, он проиграл нам одну вокальную строчку его «Жука» и спросил: что это такое? Мы не смогли ответить. «Жук», сказал он и подмигнул. Потом то же самое проделал с «Колыбельной». Ее мы уже узнали. «Видите, — сказал он, — это потому, что здесь есть ясное, самостоятельное, независимое от партий сопровождения тематическое зерно, а в "Жуке" его нет. И то и другое возможно, и то и другое хорошо, но только во всем должно быть чувство меры. "Колыбельная" написана так, "Жук" иначе, но это не недостаток его, а свойство. Эту разницу надо учесть и пользоваться соответствующими средствами, там, где надо».
Виктор Владимирович часто говорил: «это не недостаток, а свойство», — желая подчеркнуть какую-либо сложную, спорную сторону проблемы и обратить на нее наше внимание.
Во всех его рассуждениях, выводах всегда чувствовалась глубокая мысль. Прежде чем высказать нам какие-либо свои соображения, он долго и тщательно продумывал, более того, кро-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Ночной патруль 6
- Комсомольцы 20-х годов 10
- Письма с далекого Севера 17
- За творческую дружбу 25
- Музыкант большой культуры 34
- Д. Толстой и его опера «Сорок первый» 39
- В защиту мира 43
- Наша песня сегодня 46
- Памяти музыканта-революционера 50
- Пролетарский скрипач 51
- Э. Сырмус — М. Горькому 53
- Первый народный 54
- Об Асафьеве 56
- О моем учителе 58
- Прочь, тьма! 63
- «Далекая планета» 67
- У афиши театра оперетты 70
- Путь артистки 78
- Играет Натан Перельман 82
- Большой художник 84
- Камерная певица 86
- Рассказ об оркестре 88
- Музыка одного дня 92
- Заметки о новом сезоне 93
- «Мы любим музыку» 96
- На экране «Спящая красавица» 99
- В рабочем районе 101
- Это актерские удачи 102
- Они энтузиасты 104
- В народных театрах Ленинграда 107
- Оправдать высокое доверие 109
- Изгнать догматизм и школярство 114
- Они верили в будущее 116
- Воспевая революцию 124
- «Антология румынской народной музыки» 127
- «Флорентийский май» 129
- Песни мексиканской революции 135
- Книга об Эйслере 144
- К 100-летию Ленинградской консерватории 145
- Опыт педагога 150
- Г. Уствольская. «Спортивная сюита» 151
- А. Чернов. Поэма для симфонического оркестра 151
- Г. Л. Жуковский 152
- А. А. Степанов 153
- Добрый и умный друг 154
- Октябрю, партии, народу 157
- «Годы и песни» 159
- Там, где живут герои 160
- Полвека — искусству 162
- Новые грамзаписи 162
- Человек большой души 163
- Первый оркестр на севере 163
- Нужные решения 164
- Киноконцертный зал «Украина» 164
- Говорят директора театров 165



